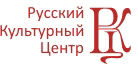Праздник на Русской улице: Татьяна Балтушникене. ПАМЯТЬ И ЖИЗНЬ.
Публикуется в авторской редакции
Татьяна Балтушникене
ПАМЯТЬ И ЖИЗНЬ.
Незабываемые актёрские дуэты на сценах драматических театров Литвы
(Главы из сборника)
МОНИКА МИРОНАЙТЕ И АРТЁМ ИНОЗЕМЦЕВ В СПЕКТАКЛЕ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЛИТВЫ "ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ" (РЕЖИССЁР АУГУСТИНАС БАЛТРУШАЙТИС, 1962 г.)
"ВОСТОРГИ ПОКОЛЕНЬЯ - НЕ БЕЗДЕЛКА"[1]
Это – спектакль-легенда, и те, кому посчастливилось видеть его, поныне о нём вспоминают с трепетом в голосе и слезами на глазах. Пьесу американского драматурга Уильяма Гибсона (1914-2008) "Двое на качелях", написанную в 1958 году, в наши края занесло ветрами хрущёвской "оттепели", и она вдруг пришлась ко двору, полюбилась особенной любовью, при том, что в литовских театральных репертуарных афишах в те годы значились куда более громкие имена современных для той поры зарубежных авторов.
Например, в Паневежском драматическом театре великий режиссёр и смелый реформатор литовской сцены Юозас Мильтинис уже поставил тогда пьесу Артура Миллера "Смерть коммивояжёра" (1958) и драму немецкого символиста и неоромантика Герхарта Гауптмана "Роза Бернд" (1960), незадолго до того, в 1956 году, перенесённую на экран западногерманским режиссёром Вольфгангом Штауде с восхитительной немецкой кинозвездой Марией Шелл в главной роли. В Каунасском драматическом театре Генрикас Ванцявичюс ставил другую драму известного американского автора Артура Миллера "Все мои сыновья" (1962). То здесь, то там игрались пьесы Брехта... То была пора впечатляющих европейских художественных открытий, утверждавших новую меру трагизма, новые изобразительные средства и методы социально-психологических исследований в артистическом искусстве. Уже шесть лет, как "оглядывался во гневе" "рассерженный молодой человек" Джимми Портер - герой пьесы "рассерженного" молодого автора, англичанина Джона Осборна, который написал свой шедевр, озаглавленный в повелительном наклонении "Оглянись во гневе", будучи двадцатисемилетним актёром. Когда английский режиссёр Тони Ричардсон впервые в мире поставил "Оглянись во гневе" в помещении лондонского театра "Ройял Корт", а именно 8 мая 1956 года, и первый Джимми Портер яростно бросил вызов всему окружающему привычному миру, вызывая его, этот мир и всех его обитателей, обывателей к барьеру, с той самой манифестной даты, как полагают историки театра XX века, был открыт и начался новый счёт театрального времени. Не отставали и европейские кинематографисты, столь же непримиримо и трепетно рассказывающие об окружающей их жизни. Уже улыбалась нам сквозь слезы своей неповторимой улыбкой трагической клоунессы великая итальянская киноактриса Джульетта Мазина в созданном Федерико Феллини шедевре итальянского неореализма - фильме "Ночи Кабирии" (1957 г.); уже избывал горькую драму жизни и судьбы своего героя несравненный трагик французского экрана Ален Делон в роли Рокко из кинокартины не менее великого итальянского режиссёра - неореалиста Лукино Висконти "Рокко и его братья" (1960 г.); уже умирал с пулей в спине и усмешкой на устах отчаянно анархиствующий киногерой, чей образ создал неподражаемый артист Жан-Поль Бельмондо в фильме "На последнем дыхании" (1959 г.), снятом соотечественником, режиссёром Жаном-Люком Годаром, одним из первооткрывателей "новой волны французского кино".
А сколько было в пору "оттепели" прочитано дотоле советскому читателю недоступных прекрасных книг, написанных прогрессивными западноевропейскими и американскими мастерами слова! Из рук в руки передавая, взахлёб читали сочинения Хемингуэя, Ремарка, Бёлля, Джойса, Чивера, Фолкнера. Все эти обстоятельства, вероятно, в той или иной мере обусловили постановку на русской сцене пьесы Гибсона "Двое на качелях", повествующую, пусть линейно и предсказуемо, но всё-таки с должной мерой реальности, про житьё-бытьё двоих - Его и Её - тридцатилетних представителей американской интеллигенции, живущих в Нью-Йорке конца 50-х. Пьеса эта была столь популярна, что имена её персонажей стали почти нарицательными, хотя они и не совсем привычны для русского слуха: его зовут Джерри, а её - Гитель.
Он, Джерри, в юности - по страстной любви - женившийся на красавице Тэсс из рода богачей (её отец Люциан даже "был не последней спицей в колеснице государства"). На деньги Тэсс и её отца Джерри смог завершить учёбу в Небрасском Университете, стал дипломированным адвокатом и ещё недавно, в придачу к безоблачному супружескому счастью, зарабатывал по пятнадцать тысяч долларов в год.
Внезапно узнав о (то ли действительной, то ли мнимой) измене своей жены, Джерри всё бросил, ушёл, что называется, "в народ", и вот - ютится в грязной комнатушке и существует на три с половиной доллара в день, к тому же он - в таком огромном Нью-Йорке - исстрадался от одиночества: "Я здесь тону в цементе!" - жалуется он встреченной на какой-то полубогемной вечеринке сострадательной Гитель. Как тут не вспомнить песенку Вилли Токарева: "Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой! / То мне страшно, то мне грустно, то теряю я покой."
Кстати, Джерри отнюдь не маленький, напротив, ростом его бог не обидел, ибо жалуется той же Гитель, что никак не может выспаться, поскольку ему мала стандартных размеров койка, купленная за гроши в каком-то центре Армии Спасения, да и матрас кишмя кишит клопами (!).
Думая о литературной генеалогии героя пьесы "Двое на качелях", вспоминаешь и других, нелюбимых иль разлюбленных жёнами, однако вполне профессионально преуспевающих адвокатов средних лет: это и Басов в "Дачниках" М.Горького, это и Смоковников, муж Кати, из трилогии Алексея Николаевича Толстого "Хождение по мукам" (присутствующий в романах "Сёстры" и "Восемнадцатый год"), это также чудовищных размеров и чудовищной судьбы адвокат Якоби в новелле Томаса Манна "Луизхен".
В знакомстве с Гитель Джерри, конечно, находит утешение, но оно оказывается временным. Дело в том, что он, совершенно как чеховская Раневская в "Вишнёвом саде", не может разорвать духовную связь с отсутствующим адресатом, то есть - с женой Тэсс: сначала Джерри не отвечает на её звонки и письма, потом начинает откликаться, потом сам звонит и пишет ей и её отцу, и в конце концов, даже получив официальный развод, едет к неизменно любимой Тэсс, чтобы начать с ней новую жизнь.
Живая, бойкая, дружелюбная, не привыкшая лезть в карман за словом, Гитель мечтает о карьере танцовщицы, и в этой связи дни её заполнены разнообразной лихорадочной деятельностью, в которую волей-неволей вовлекается и Джерри, временно нашедший в уютной комнатке Гитель и стол, и кров, и даму сердца, которую через полгода покидает без особенных сожалений, но сохранив, вероятно, самые добрые о ней воспоминания.
Образ Гитель литературно интернационален: на всех континентах и в книгах, и в жизни встречаются похожие на неё женщины "из толпы". Есть они и в русской прозе XX века - в рассказах и повестях, например, Виктории Токаревой, Татьяны Толстой, в пьесах и прозе Людмилы Петрушевской.
Художественную эффективность этой, сочиненной Уильямом Гибсоном пьесы для двоих исполнителей подтвердили её многочисленные постановки в разных уголках театрального мира.
Ставилась она в 1962 году и с огромным успехом игралась на сцене тогда новаторского Московского театра-студии "Современник" в режиссуре Галины Волчек, с Михаилом Козаковым и Татьяной Лавровой, снискавшими в ролях Джерри и Гитель поистине всесоюзное признание. Мне довелось знать и видеть людей, которые издалека, по двое-трое суток ехали в Москву только лишь для того, чтобы увидеть в "Современнике" спектакль "Двое на качелях", а потом неделями, месяцами восторженно вспоминать о нём (взволнованно пересказывали по нескольку раз всем окружающим содержание пьесы, воспроизводили интонации известных актёров...). Впрочем, были и другие репертуарные параллели Московского "Современника" и Русского драматического театра Литвы: и тут, и там, к примеру, ставилась в первой половине 60-х современная драма из русской жизни - "В день свадьбы" Виктора Розова, где молодая женщина отказывается от человека, который тоже любит другую. Пьесу "В день свадьбы" на сцене Русского драматического театра Литвы в 1964 году интерпретировала литовский режиссёр Аурелия Рагаускайте, десятилетие спустя возглавившая Шяуляйский драматический театр, где поставила ряд замечательных спектаклей.
Возвращаясь на родину Уильяма Гибсона, в США, можно вспомнить, что пьесу "Двое на качелях" всё в том же 1962 году перенёс на экран режиссёр Роберт Уайз, ранее ставивший в кино известную новеллу Мопассана "Мадемуазель Фифи" и увенчанный "Оскаром" мюзикл "Вестсайдская история", а позднее широко известную, также "оскароносную" музыкальную мелодраму "Звуки музыки". Сначала Роберт Уайз предложил роль Гитель блистательной Элизабет Тейлор (1932-2011), но обладавшая тонким и безошибочным литературным вкусом красавица-кинозвезда от этой роли решительно отказалась - в пользу киноверсии пьесы Теннесси Уильямса "Однажды прошлым летом", где сыграла труднейшую роль Кэтрин замечательно, так же как впоследствии Марту в экранном варианте пьесы Эдварда Олби "Кто боится Вирджинии Вульф", где её партнёром был выдающийся английский актёр Ричард Бартон (в чьём богатом репертуаре значилась и "ударная" роль Джимми Портера из пьесы Осборна "Оглянись во гневе").
В результате экранный образ Гитель в ленте Уайза создала мятежная и вечно бунтующая американская кинозвезда первой величины Ширли Мак-Лейн, воплотившая здесь одну из центральных в своём творчестве тему женщины, отчаянно и неумело ищущей свой путь в жизни и в искусстве, женщины, в сердце которой, несмотря на её тридцатилетний возраст, одиночество, хроническую болезнь, жива надежда стать танцовщицей и мечта о любви, ставшая лейтмотивом пьесы "Двое на качелях".
* * *
Отчего в общем незамысловатая пьеса Уильяма Гибсона, сюжет которой предсказуем с первых же эпизодов, а текст изобилует далеко не высокой лексикой, нашла столь горячий приём у взыскательной вильнюсской публики? Что же столь особенного и поныне незабываемого изобразили - отобразили - воплотили - подарили зрителям, играя в ней, Миронайте и Иноземцев? Какими новыми, а может быть, новейшими художественными качествами отличалась их игра?
Можно ли, спустя полвека, говорить о каком-то влиянии стилистики спектакля Балтрушайтиса "Двое на качелях" на дальнейшую театральную жизнь Литвы?
Ответить на эти вопросы - по моей почтительной просьбе - любезно согласилась выдающийся литовский театровед и педагог, профессор искусствоведения Ирена Алексайте.
ИРЕНА АЛЕКСАЙТЕ: "ТО БЫЛ ИСТИННЫЙ ПРАЗДНИК АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА"
(комментарий-воспоминание)
"Думаю, что жизнь всякой пьесы зависит от артистического умения, в спектакле же Аугустинаса Балтрушайтиса "Двое на качелях" - том одном-единственном, который он поставил на русской сцене Литвы, играли необыкновенные мастера. Моника Миронайте и Артём Иноземцев просто не могли бы разыгрывать на сцене какой-нибудь банальный флирт - они играли так, словно над ними, над их героями разверзлось небо. Они подняли банальную пьесу на необыкновенную высоту, они демонстрировали высочайший - из дотоле виданных в то время - психологизм и тончайшую нюансировку чувств, которые даже невозможно высказать словами. Моника Миронайте наделяла образ Гитель такой глубиной, что Джерри просто не мог не полюбить её больше жизни. Миронайте вложила в роль Гитель Моска всё своё сердце!
Внешне актриса показывала героиню Гибсона и нарочито легкомысленной, и капризной; в этой роли Миронайте говорила чуть более высоким, чем её природный - низкий, певучий, голосом. В начале роли Гитель пребывала в глубокой растерянности, выглядела подавленной, угнетённой своею неустроенностью и ото всех скрываемой болезнью, а также пониманием, что её время танцевать ушло, но любовь к Джерри на наших глазах воскрешала эту женщину из небытия, и данный процесс превращения актриса воплощала идеально, отображая всю глубину страдания. Гитель всё полнее и вернее осознавала свою судьбу. А кульминационные слова и драматические по смыслу реплики роли Миронайте произносила как бы шутя, но за этим стояли (и зритель всё понимал) и живая боль, и давнее предчувствие, что они с Джерри не состарятся вместе.
Раскрывая характер Джерри, Артём Иноземцев отображал не только чувства, но и присущую своему герою мудрость самосознания. Джерри оценил, понял Гитель, спасал её, выручая из рискованных ситуаций, но оставался тем человеком, который не бросается своими чувствами и поэтому возвращается к жене, ибо слишком горд, чтоб вести двойную игру. Всё это было ново в художественном анализе современной мужской психологии.
Артём Иноземцев в этой роли был на редкость обаятелен и элегантен, он играл сурово, строго, не допуская тех фривольностей, которые, встречаясь в тексте, нисколько не влияли на личностный облик и честный взгляд как героя, так и исполнителя. В спектакле "Двое на качелях" Иноземцев "выдавал" всё, что мог как актёр! По отношению к Гитель-Миронайте Джерри проявлял нежную и чуткую заботу, обращался с нею чрезвычайно бережно и деликатно, пытаясь, "давая горькое лекарство в малых дозах", внушить ей, что она не Айседора Дункан, что пора всерьёз подумать о дальнейшей жизни.
Героев спектакля Балтрушайтиса связывали такие высокие чистые чувства, какие только могут быть на свете. Создатели спектакля изъяли, вымели из текста "Двое на качелях" весь там встречающийся мусор (описания запущенной комнаты Джерри, матрасы, кишащие клопами, разбитые окна и т.п. Не было на сцене сказано и слова о клопах!) и таким образом по-своему облагородили текст. Однако главная заслуга режиссёра Балтрушайтиса в том, что он создал высочайшей пробы актёрский спектакль и сумел, успел запечатлеть в нём Артёма Иноземцева и Монику Миронайте в тот момент, когда они оба были в самом расцвете таланта и, сыграв роли Джерри и Гитель, закрепили ими свой успех на долгие годы. Помню, зрители толпами не просто так шли, а бежали, неслись сломя голову на этот спектакль, и в ходе его публика испытывала счастье. Я сама смотрела "Двое на качелях" четыре раза. То был истинный праздник актерского искусства!"
* * *
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МОНИКИ МИРОНАЙТЕ
Моника Миронайте (1913-2000) - великая литовская актриса, чьи роли стали воплощением классического сценизма. Созданные Моникой Миронайте - на литовской и русской сценах - блистательные образы женщин разной судьбы, но неизменно красивых, роковых и страдающих, навеки запечатлены в памяти благодарных зрителей. О каждой из её ролей можно сказать словами, прозвучавшими в одной из кинокартин выдающегося немецкого режиссёра Вернера Херцога "Фицкаральдо": "Как ты докажешь, что видел чудо? - Доказательство состоит в том, что я видел это чудо своими глазами!"
И литовские, и российские критики в продолжение шести десятилетий восхищались искусством Миронайте: широтой исполнительского диапазона, эмоциональностью, музыкальностью и пластическим совершенством созданных ею образов, наделённых сложным и утончённым интеллектуальным содержанием, а во многих случаях - и оригинально раскрытым подтекстом роли. В 1959 году Миронайте было присвоено звание народной артистки Литовской ССР, в 1965-м актриса стала лауреатом Республиканской премии.
Героини Моники Миронайте существовали под её именем отмеченным знаком Непреклонной Женственности и покоряли сиянием внутренней и внешней красоты, безудержным стремлением к гармонии и счастью, умом, благородством и силой страсти.
Накануне своего 80-летия, в апреле 1993 года актриса любезно согласилась дать мне интервью.
МОНИКА МИРОНАЙТЕ: "ВСЁ БЕРЁШЬ ИЗ ДУШИ СВОЕЙ..."
"Мне даже странно, - сказала в той беседе знаменитая актриса, - что и поныне столь многие первым делом вспоминают именно мою Гитель из поставленной Аугустинасом Балтрушайтисом популярной драмы Уильяма Гибсона "Двое на качелях"...
На мой полувопрос, не имел ли здесь место тот факт, о котором подробно пишет известный театровед Эрик Бентли, когда замечательное актёрское исполнение "приподняло над землёй" обычную мелодраму, Миронайте возразила: "О нет, пьеса эта, по-моему, незаурядна, только в ней за привычными обстоятельствами надо разглядеть тему, которая для меня всегда была очень важной - тему духовного преображения женщины. После всего пережитого, после надежд, разочарований и - наконец - после разлуки с любимым Гитель становится другим человеком. Кстати, переводчик этой пьесы Гибсона на русский язык Наталья Тренёва говорила мне, что видела сотни постановок драмы "Двое на качелях", но нашу с Артёмом Иноземцевым, сыгранную в 1962 году, считает лучшей. Приятно было играть - легко!"
Напоминаю и о другом, снискавшем признание сценическом дуэте с Иноземцевым - в "Пигмалионе" Бернарда Шоу (режиссёр Леонид Лурье, 1961 г.): изумительная Элиза, жизнерадостный Хиггинс и также - эффект полного, морального и физического преображения женщины. Тут уместно заметить, что, поскольку ни в русском, ни в литовском языках нет фонетически выраженного просторечия (аналога английского "кокни"), а есть только внесословные диалекты, жаргоны, лексические "кальки", первую часть роли Элизы в "Пигмалионе" Моника Миронайте исполняла, используя лексические приёмы уникального русско-польско-литовского говора "тутэйших", характерного для некоторых мест Вильнюсского края.
То есть, можно сказать, что на сцене Русского драматического театра Литвы был аналитическим путём найден и незабываемо озвучен в спектакле по пьесе Шоу "местный" лингвистический эквивалент того самого речения "кокни", с которым даже на родном английском не вполне смогла совладать всеми обожаемая американская кинозвезда Одри Хепбёрн (1929 - 1993), играя в мюзикле у Джорджа Кьюкера "Моя прекрасная леди", снятом по тому же самому "Пигмалиону" Шоу.
Вспоминая свою героиню "Пигмалиона", Моника Миронайте говорила: "Думаю, у Элизы Дулитл и от природы было, пускай в задатке, но всё необходимое для происходящей с нею метаморфозы. А главное, она, ещё будучи уличной цветочницей, уже обладала чувством собственного достоинства. Остальное - и великосветские манеры, и правильная речь - просто приложилось благодаря счастливой игре случая и... любви".
"Считаете ли Вы, - предложила я вопрос, - что художественный анализ женских судеб и страстей особенно труден, ибо женская судьба почти всегда гораздо менее, нежели мужская, зависит от обстоятельств, скажем, политических и даже социальных и гораздо более - от обстоятельств личностных?"
"Вероятно, это так, - ответила Миронайте. - Я всегда стремилась найти в образе что-то общее со своими страданиями".
- Вам так много довелось перестрадать?
- О-о!.. Сколько было у меня в жизни утрат! Тяжких, невосполнимых.., - горестно вздохнула великая актриса. - В молодости я внезапно потеряла горячо любимого мужа, осталась с маленьким ребёнком на руках. (Первый муж Моники Миронайте - выдающийся литовский теоретик театра, режиссёр-новатор и актёр Альгирдас Якшявичюс (1908-1941) скоропостижно скончался в Каунасе от инфекционного заболевания. А.Якшявичюс в конце 30-х годов работал и в Москве, в театре им. Е.Вахтангова; переводил на литовский язык труды К.Станиславского - Т.Б.)
Все мои утраты, все тяжкие испытания и дали мне импульс для понимания других жизней. Всё необходимое для актёрского творчества берёшь из души своей - больше неоткуда".
* * *
В облике Моники Миронайте на послевоенных сценах Литовского академического и Русского драматического театров представали Лариса Огудалова - героиня драмы А.Н.Островского "Бесприданница" (1950 г.), Настасья Филипповна в сценическом варианте романа Ф.М.Достоевского "Идиот" (1963 г., режиссёр Л.Лурье), ибсеновская Нора, Надежда Монахова из "Варваров" М.Горького (1955 г., режиссёр В.Головчинер), Лиза Калитина в инсценировке тургеневского "Дворянского гнезда" (1956 г., режиссёр Л.Лурье)...
"В жизни этих литературных героинь, этих женщин, - сказала актриса, - и случаются те события, которые нас потрясают. Русская душа мне близка (хотя во мне нет ни капли русской крови), а русский язык - это язык моего детства, поскольку первые восемь лет моей жизни прошли в Самаре". "О Волга, колыбель моя!" - произнесла некрасовскую строку Моника Миронайте с присущей всему её театральному и декламационному мастерству удивительной, поистине чеканной красотою словесного жеста.
"Ведь и роль Ларисы Огудаловой в "Бесприданнице", которую в театре литовской драмы ставил режиссёр Александрас Кярнагис, начинается словами: "Я сейчас всё за Волгу смотрела: как там хорошо, на той стороне!" Это особенно понятно тому, кто, как я сама, рос у Волги и с детства запечатлел в памяти её ширь и красоту... - рассказывала Миронайте. - Интонация этой первой фразы, которая по существу задаёт всю дальнейшую драматическую партитуру роли, определяет и звучание кульминационных, вложенных в уста бесконечно любимой мною Ларисы откровений: "Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так слёз-то бы не было"; "Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге"; "Я любви искала и не нашла"; "для несчастных людей много простора в божьем мире: вот сад, вот Волга..." Трагически чарующе звучали, трогая до слёз, эти романно-романсные слова, произносимые главной героиней "Бесприданницы", в чьём образе запечатлена на подаренной мне актрисою фотографии той поры трогательно прекрасная, с высоким белым челом и гордым изгибом губ, с устремлённым куда-то вдаль (может, за Волгу?) взглядом огромных, распахнутых навстречу горькой судьбине и переполненных болью глаз, в белом платье Моника Миронайте, а рядом - её партнёр, литовский актёр Пятрас Зулонас (1910-1981) в роли Карандышева. Паратова в том спектакле играли - в очередь - Казис Инчюра и Стяпас Юкна.
В уютной, утопающей в цветах гостиной актрисы, где и шла наша беседа, на стене висел написанный маслом портрет Моники Миронайте - в приглушённых сине-бордовых тонах. Автор этого портрета - известная литовская художница Броне Мингилайте-Уогинтене, создавшая серию эмоционально-экспрессивных, отличающихся изысканным колоритом портретов литовских мастеров литературы и искусства, передала в этом портрете великой актрисы те самые смыслы, которые увековечены и на фотографиях Миронайте в роли Настасьи Филипповны, и в портрете, фигурирующем, наряду с самой героиней, на страницах романа Достоевского "Идиот", а именно: "В этом лице... страдания много"; "Такая красота - сила, с этакою красотою можно мир перевернуть!"
Несравненной красотой словесного жеста Моника Миронайте покоряла и в роли Катюши Масловой - в литовском радиоспектакле по роману Л.Н.Толстого "Воскресение", где роль Нехлюдова исполнил замечательный литовский трагик Стяпас Юкна (1910-1977), прославившийся и ролью Барона в пьесе М.Горького "На дне". А текст от автора в радиопостановке "Воскресения" читал мастер литовской сцены Йонас Каваляускас. В беспредельно драматической интонационной палитре образа Катюши страстно, но без грана мелодраматизма, изысканно и потому незабываемо звучали переполненные отчаянием ключевые фразы этой, одной из самых сложных в русском репертуаре, роли: "Не виновата я, не виновата! Грех это. Не виновата я."; "Какого ещё бога там нашли? (...) Вот вы бы тогда помнили бога." (...) "Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть." - всё, вплоть до заключительного "Наши счёты бог сведёт", всё это, цитируя Л.Н.Толстого, "как будто раскрывало в душе (...) поток любви, не находившей прежде исхода".
Так и в "Воскресении" художественными средствами радиоспектакля Миронайте утвердила тему духовного преображения Катюши - в полном согласии с главной идеей романа Л.Н.Толстого.
В ту пору жизни, когда литовская актриса была в возрасте вышеупомянутых героинь русской классической литературы, дни её были наполнены разнообразной деятельностью.
"Я не только писала для детей и редактировала выходивший в 30-х годах в Каунасе детский журнал "Витурис", но и сама писала стихи. Много стихов. И для взрослых - тоже, - рассказывала Миронайте. - Одновременно я служила в канцелярии Министерства земледелия, сотрудничала в журнале "Мать и дитя", работала в кукольном театре и занималась в Экспериментальной театральной студии актёрского искусства, которую окончила в 1934 году. Словом, я стремилась к самостоятельности, как и такие мои героини, как арбузовская Таня или покидающая "кукольный дом" ибсеновская Нора. Женщина всё-таки должна осознавать смысл своего существования, найти точку приложения сил, а если надо - изменить обстоятельства по своему усмотрению".
- Томас Манн полагал, что в актёрском деле характер даже важнее таланта. Вы согласны? спросила я.
- Вполне, - ответила Миронайте. - Не знаю, был ли у меня талант, но уж характер - ого-го! (...) С Русским драматическим театром Литвы я попрощалась в 1968 году спектаклем по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец" (режиссёр И.Борисов), где я играла Аманду, моя дочь Дагне Якшявичюте - Лауру, мой зять Володя Ефремов - Джима: вот такое тогда у нас выщло единственное в своём роде "семейное представление".
В 70-90-х годах прошлого века Моника Миронайте играла на сцене Академического (ныне - Национального) театра литовской драмы, часто радовала своим декламационным искусством любителей классической и современной поэзии, проникновенно читая на своих творческих вечерах стихи Саломеи Нерис, Винцаса Миколайтиса-Путинаса, Майрониса, Кристийонаса Донелайтиса, а также русских поэтов "серебряного века".
В те годы её спутником жизни - мужем и советчиком, как говорила актриса, был писатель, классик литовской литературы Юозас Балтушис (1909-1991).
В драме знаменитого швейцарского драматурга постмодерниста Фридриха Дюрренматта "Играем Стриндберга" Миронайте создала образ Алисы, который своею пышной, пластической, барочною красотою словно бы напоминал красоты швейцарского барокко - собор Святого духа в Бёрне и столичные фонтаны, щедро украшенные великолепными скульптурами... По содержанию же эта сыгранная Миронайте героиня была совершенно созвучна постулату своего творца, то есть Дюрренматта, уверявшего, что "мы в момент творчества находимся на ином уровне сознания, нежели находились раньше, в момент предыдущий". В исторической драме выдающегося литовского писателя Балиса Сруоги "Казимерас Сапега" Миронайте представала царственно статной, поэтической Марысенькой, будто сошедшей с картины какого-нибудь из европейских мастеров XVII века, писавших парадные, в полный рост, женские портреты.
Часто актриса - с её неиссякаемой творческой энергией и неподвластным времени блестящим мастерством - украшала своим присутствием спектакли режиссёра Ирены Бучене (1939-2001): трагигротескно играла Эржбетту из трагикомедии венгерского писателя Иштвана Эркеня "Кошки-мышки" (другое название - "Игра в кошки"); в "Вишнёвом саде" вела роль Раневской в традициях МХАТа печально и величественно, живой слезою оплакивая невозвратное прошлое чеховской героини, а в комедии Б.Шоу "Пигмалион", где Хиггинса играл Регимантас Адомайтис, а Элизу - популярная киноактриса Виргиния Кельмялите, Миронайте с чисто английским чувством юмора и стиля создала удивительно полнокровный образ педантичной и чуточку надменной в своей благопристойности миссис Пирс, которая по-житейски мудра и недоверчиво относится к затевающемуся в ей вверенном аристократическом доме эксперименту.
Корифей литовской сцены Миронайте соглашалась играть у тогда молодого, а ныне знаменитого, возглавляющего московский театр имени Вахтангова литовского режиссёра Римаса Туминаса: в концертной манере исполнила она роль живущей в доме престарелых пенсионерки в спектакле "Снова туда, где море огней...", созданном по пьесе Александра Галина "Жанна", а в памятном (навек!) бинарном спектакле по драме немецкого автора Гарольда Мюллера "Тихая ночь" в дуэте с прекрасным артистом Миколасом Смагураускасом (1935-1992) полифонически воплотила и тему одинокой страсти, и мотив святой материнской любви. Весь спектакль был пронизан тихим и неизбывным трагизмом.
"В "Тихой ночи" Вы в обновлённых эмоциональных параметрах воссоздавали то самое "важное и вечное", о котором говорил в чеховской "Чайке" доктор Дорн, не так ли? - спросила я, а Моника Миронайте ответила: " Увы, не вечное. После трагической гибели моего любимого партнёра Миколаса Смагураускаса наша "Тихая ночь" тоже не воскреснет". Финал нашей беседы звучал так:
- Какую сферу бытия Вы, госпожа Миронайте, любите, помимо театра?
- А кто Вам сказал, что я люблю театр? - ответила вопросом на вопрос великая актриса.
- Что же тогда любите?
- Музыку.
- Есть ли у Вас заветный символ?
- Вечерняя звезда. Первая. Которая вон там сейчас восходит. (За окном в тёмном весеннем небе действительно в тот момент, как по волшебству, зажглась первая звезда.)
- Спасибо за беседу. И за Ваше высокое искусство.
Артём Михайлович Иноземцев ( 1929-2001), выпускник ГИТИСа, имевший звание Народного артиста Литвы, доблестно отслужил четыре десятилетия на подмостках сцены Русского драматического театра Литвы, где сыграл около ста ролей, преимущественно главных и сложных. Сыгранные в спектаклях режиссёра Леонида Лурье Никита из драмы Л.Н.Толстого "Власть тьмы" (1960 г.), одержимый гуманистической научной идеей профессор Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу (1961 г.), "не только страдающий, но и мыслящий" Парфён Рогожин в инсценизации романа Ф.М.Достоевского "Идиот" (1963 г.) вполне соответствовали канонам психологического реализма и принесли едва перешагнувшему рубеж тридцатилетия актёру признание как многонациональной вильнюсской публики, так и литовской критики.
Иноземцев выразительно воплощал Суслова в "Дачниках" М.Горького и внешне сурового, затаённо страстного Арбенина, истинного героя лермонтовского "Маскарада" (оба эти спектакля в середине 70-х ставил Виталий Ланской, бывший тогда главным режиссёром Русского драматического театра Литвы); Понтия Пилата в осуществлённой знаменитым российским режиссёром Романом Виктюком по-"перестроечному" бескомпромиссной сценической версии романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита" (1988 г.)... Свой творческий путь Артём Михайлович завершил "под занавес" двадцатого века, изобразив - как всегда вдохновенно, "крупным мазком", но с невиданными дотоле острогротескной хваткой и натуралистической достоверностью пьяницу-контролёра из поэмы Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки", которую в 1999 году перенёс на сцену бывший тогда художественным руководителем театра режиссёр, он же джазовый музыкант с международным именем - Владимир Тарасов.
АРТЁМ ИНОЗЕМЦЕВ: "САМОЛЁТУ НАДО ПЕРЕЛЕТЕТЬ ОКЕАН..."
В интервью, которое Артём Иноземцев дал мне в канун своего шестидесятипятилетия, пьеса Уильяма Гибсона "Двое на качелях" и поставленный по ней режиссёром Аугустинасом Балтрушайтисом спектакль составили едва ли не главный объект воспоминаний: "О, это было особое время! Самое начало 60-х! - говорил известный актёр. - То была пора, когда ведущей актрисой Русского драмтеатра стала легендарная Моника Миронайте, литовская актриса, определявшая тот, сразу ставший необычайно высоким, творческий уровень, на котором тогда стремилась работать вся труппа. Моника Миронайте играла неповторимо! (...) Что касается спектакля "Двое на качелях", то появление в 1962 году у нас этой бинарной пьесы, принадлежащей перу американца Гибсона, адекватно выходу в свет военной порою поэтического сборника Константина Симонова "С тобой и без тебя". Пьеса "Двое на качелях" говорила новым (для нас тогдашних), интимным и современным языком о самой сути человеческих взаимоотношений. Первозданность выведенных в ней ситуаций изумляла зрителей, замученных "драмами" про сталелитейные процессы и посадку картофеля "квадратно-гнездовым способом". (...) Театр вообще, по-моему, не зеркало общества, а наи-жи-вей-шая клеточка в социальном мозгу. (...) Режиссёр Аугустинас Балтрушайтис оказался страстным, увлечённым, оригинально думающим человеком, который находился в постоянном поиске необходимых средств выражения.
Мы начали репетировать на два дня позже намеченного графиком срока, ибо машинистки были не в состоянии печатать текст - они обливались слезами. Пятна от расплывшихся по бумаге слёз, пролитых ими, первыми читательницами пьесы "Двое на качелях", так и остались на полученных нами с Миронайте машинописных страницах, да и репетировать пришлось почти подпольно, поскольку дирекция тогда на бинарные пьесы смотрела косо, всерьёз вопрошая: "А где ж коллектив?" (...) Бинарная пьеса предполагает наличие особой силы и особого рода сценического "магнитного поля", что на языке русской театральной школы означает сопричастность страданию - мучительную и вечную связь между людьми, которая сильнее едва ли не всех остальных ощущений связи.
Русская театральная школа, основной художественный момент которой есть перевоплощение на базе переживания, даёт артисту безграничные возможности. По мере своих скромных сил я старался в продолжение всей моей жизни хранить верность её традициям. Недаром Томас Манн - в новелле "Тонио Крёгер" устами главного героя-писателя - сказал, что "достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература", ибо она была написана не ради заработка, а во имя спасения человека. Действительно, если вдуматься, всех значительных героев русской классической литературы объединяет одно заветное качество - идеализм".
"Для каждой роли, - утверждал в ходе нашей беседы Артём Иноземцев, - очень важно найти свой голос: тембровые, интонационные, регистровые оттенки, вся акустическая характеристика персонажа (забытая на тот длительный период, когда бал правила манера исповедальная) являются прекрасной панацеей от самотиражирования".
Одним из сценических шедевров Артёма Иноземцева стал штатный тюремщик Родриг Иванович из памятного спектакля "Приглашение на казнь", который в 1989 году по одноимённому роману Владимира Набокова поставил в Русском драматическом театре Литвы замечательный украинский актёр и режиссёр Григорий Гладий, сумевший с редчайшей, прямо-таки снайперской артистической точностью воссоздать в сценических координатах, в лицах и обликах сложную прихотливую совокупность смысловых и эстетических принципов набоковской прозы. О своём персонаже в спектакле Григория Гладия Иноземцев вспоминал так: "Мой старый, медведеобразный, "тюфяковый" Родриг Иванович, в чьём даже имени заключён парадокс, представлялся мне одержимым одним стремлением - стать подобием своего шефа - месье Пьера, великолепно, на мой взгляд, сыгранного литовским артистом Витаутасом Шапранаускасом (1958 - 2013). Однако Родриг Иванович всё время как бы "опаздывал на полтакта", и не знаю, как ещё полнее, чем сделал это Шапранаускас, можно было передать ужас забавы над страданиями заключённого в тюрьму человека, чьё мировоззрение не соответствует тоталитарной системе".
Подобный ужас - после написанного в 1938 году в Европе русскоязычного "Приглашения на казнь" - Набоков описывает и в своём англоязычном романе "Под знаком незаконнорождённых" (США, 1947 г.), где также потрясают сцены издевательств "службистов" абстрактного тоталитарного государства над свободомыслящими философом Адамом Кругом и режиссёром Эмбером, чей ход размышления над новой постановкой "Гамлета" прерывают пришедшие его арестовать и при этом весело перебрасывающиеся полускабрезными шуточками зловещие девица Бахофен и её покровитель, владелец номерного оружия Густав - "миловидная дама в сшитом по мерке сизовато-сером костюме и господин со сверкающим красным тюльпаном в петлице визитки", обязанные, по решению своего высшего начальства, обеспечить "некоторое изящество и необычайность в обстановке ареста". Можно представить, как блистательно сыграл бы маэстро Иноземцев главного героя романа "Под знаком незаконнорождённых" - во всех отношениях крупномасштабного, бесконечно мужественного, мудрого и храброго Адама Круга, сумевшего-таки не раз давать моральный отпор бесчеловечной, до зубов вооружённой системе!
Недаром Артём Михайлович - между прочим - сказал, что владеет всеми видами оружия и умеет умеет водить все наземные транспортные средства; доводилось ему держать в руках и штурвал самолёта. Жизнь свою артист назвал "прожитой разнообразно, в том числе и "по-командорски".
"В театре, - говорил он, - в отличие от всех других изобразительных искусств момент истины доказывается на протяжении времени: от начала (замысла) до конца (спектакля). При этом первоначальный замысел нередко оказывается иллюзорным и подвергается кардинальной правке в ходе репетиций. Однако главная работа над сценическим образом идёт не только на репетициях, а и в душе актёра, когда он дома "про себя" мечтает о том, что его поднимает - вопреки всему - над бытовым кругом жизни. Репетиция - это что-то вроде взлетной полосы, но ведь самолёту надо ещё перелететь океан..."
ЛИЛИЯ МРАЧКО И ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ В СПЕКТАКЛЕ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЛИТВЫ "СВИДАНИЕ В САНЛИСЕ" ПО КОМЕДИИ ЖАНА АНУЯ (РЕЖИССЁР ДМИТРИЙ ЧЕРНЯКОВ, 1994 год)
ГРЁЗОФАРС - НА ДВА ГОЛОСА
"Я трагедию жизни претворю в грёзофарс", - весело обещал в своём стихотворении "Увертюра" ("Ананасы в шампанском!") изысканный русский поэт-эгофутурист Игорь Северянин. "Пусть поймут скучные философы отчаяния, (...) пытающиеся помешать нам развлекаться в театре: мы - забавны!" - сообщал выдающийся французский драматург Жан Ануй (1910 - 1987), чью комедию "Свидание в Санлисе" в 1994 году удачно интерпретировал на сцене Русского драматического театра Литвы московский режиссёр Дмитрий Черняков - тогда дебютант, а нынче - художник сцены с международным именем.
В спектакле двадцатилетней давности "Свидание в Санлисе", оживившем и украсившем русскую сцену в Вильнюсе, Дмитрий Черняков, помимо режиссёрской миссии, взял на себя обязанности сценографа и художника по костюмам. Его спектакль перевёл труппу из положения устойчивого равновесия в состояние свободного полёта. Персонажи этой пьесы Ануя открытым сценическим текстом, перекликаясь с "Увертюрой" Северянина, объявляют о своём намерении "из спектакля своей жизни сделать водевиль", что - по ходу действия - им вполне удалось. Оставив в стороне тогда ещё почти всемогущие "тягучие ритмы, свойственные - по определению известного русского киносценариста Юрия Арабова - артхаузному кино конца 80-х годов прошлого века, режиссёр Черняков ориентировал исполнителей "Свидания в Санлисе" на бодрые живительные темпоритмы, визуальную изобретательность и повышенную подвижность артистического ансамбля, в котором каждый персонаж, как указано в трактате выдающегося итальянского писателя, утвердившего принцип "театр в театре", Луиджи Пиранделло "Юморизм", являл бы собою новую эстетическую категорию. Приметы эстетических категорий - стараниями Дмитрия Чернякова - сообщались не только персонажам, но и предметам (в согласии с лозунгом Владимира Маяковского "Сделайте мне красиво!"): если в комнате дома, который внезапно берёт внаём главный герой "Свидания в Санлисе" таинственный месье Жорж, на гобеленах птиц разглядеть из зрительного зала нельзя, и, возможно, их там, на тканых обоях, вообще нету, то - вот они вам в натуральную величину посередине сцены наглядные два больших белых аиста среди мягкой мебели в белых чехлах и в свете девяти ламп под ажурно белыми абажурами - всё для персонажей, коим суждено оказаться здесь. Всем им пришлось изрядно потрудиться, передвигая с места на место кресла и диваны - режиссёр верен был английской пословице "Нет ничего скучнее дома, где никогда не переставляется мебель". Впрочем, тут в Санлисской обители, что в пятнадцати верстах от Парижа, и без того было нескучно. Под очаровательно остроумный текст пьесы Ануя (в переводе Валентина Дмитриева), являющей собою синтез трагикомедии, фарса и водевиля, текст, звучавший в спектакле Чернякова то стаккато, то пунктиром, то вперебой, то телеграфно, но всегда в приятных для слуха, подчас неожиданных интонациях, зрители постигали смысл искусно, по законам почти классической интриги затеянной игры.
"Условность, которая впоследствии служит прибежищем слабых, всегда создаётся сильными", - писал Ануй в похвальном слове Мольеру, у которого, как полагает литературовед Л.Зонина, учился "сочетанию бытовой типажности заземлённых персонажей и высокой поэтической условности лирических героев".
Вот и центральный герой "Свидания в Санлисе" молодой и красивый авантюрист, поэт в душе и ловелас месье Жорж, по примеру самого Дон Кихота , решительно намерен воссоздать мир своей мечты в конкретных земных реалиях - в чужом, снятом на месяц, комфортабельном доме, в надежде на один-единственный вечер, сулящий ему пять минут счастья с идеальной, но решительной Изабеллой (актриса Людмила Гнатенко). Артист Александр Агарков показал Жоржа весёлым, обаятельным и предприимчивым фантазёром, чьи миражи и проделки, завораживая и его самого, и зрителей, приводили к тому, что ход событий пьесы сам по себе становился куда важнее исхода дела. Чем всё кончится, Жорж и сам толком не знал, для него главное - начать любовно-карнавальную игру - с ведущей сюжетной альтернативой: любовь или деньги - и вовлечь в неё всех желающих.
И всем, как героям спектакля, так и зрителям было хорошо и уютно в той белой гостиной, где сходились и денежные счета, и логические сюжетные концы с концами, где обитали призраки и признаки счастья, а сердца просто не имели права разбиваться. Время то летело стремглав, то растягивалось чередой ассоциативных сопоставлений (например, игрушечная железная дорога "играла" и в "бинарном" спектакле Римаса Туминаса "Тихая ночь" (1983 г.) по пьесе Гарольда Мюллера - с участием легендарной литовской актрисы Моники Миронайте и Миколаса Смагураускаса, а также в романе австрийского писателя Хаймито фон Додерера "Слуньские водопады"; горячие ножные ванны принимал один из персонажей спектакля "Ясон" по пьесе Саулюса Шальтяниса, поставленной во второй половине 70-х годов на сцене Государственного театра Молодёжи известным литовским режиссёром Далей Тамулявичюте).
Оживлённый сценический ансамбль отчасти водевильных, отчасти символических фигур "Свидания в Санлисе" режиссёр Дмитрий Черняков создал, разделив их, как шахматные, на белых (добрых) и чёрных (живых, которые себе на уме). Чёрные хотят и дальше жить за счёт богатой жены Жоржа. Он - в вихре жизненного вальса - и сам забыл, что женат, но вот приходится об этом вспомнить. Преодолевать все мелодраматические эффекты, которыми чреват сей досадный факт, помогала раскованная радость предвкушения духовной свободы, наполнявшая сферу эмоционально и формально обновлённого сценического бытия. Избрана Дама Сердца - королева праздника свободы под белыми сводами белого зала, а потом белые персонажи "Свидания в Санлисе" вновь, как ни грустно, становятся теми, кем им быть на роду написано - путешественниками без багажа, искателями новых приключений. У кого-то в кармане - бутафорский орден Почётного Легиона, у кого-то - билет до пасеки в Пиринеях... Здравствуй, новая жизнь взаймы!
Блестящим украшением "Свидания в Санлисе" - редким проявлением высшего пилотажа артистического искусства стал "спектакль в спектакле" - сценический дуэт Лилии Мрачко и Владимира Ефремова, создавших образы безработных актёров, нанятых (по сюжету пьесы) на роли респектабельных родителей Жоржа. Мрачко и Ефремов исполняли - на два голоса - тот самый, обещанный Игорем Северяниным "грёзофарс", где мир грёз, навеваемый, скажем, "Сказками Венского леса" в кинокартине Жюльена Дювивье "Большой вальс", сосуществовал в диалектическом взаимодействии с первозданным фарсом как светской интермедией в театральных представлениях эпохи французского Средневековья.
Их манера с царственным величием носить свои безукоризненно сшитые белые (но, если приглядеться, вероятно, слегка уже порыжелые от времени) выходные костюмы, их непроницаемые лица - социальные полумаски, их (исполнительски - ироническое) самоупоение собственной значимостью и изысканные словесные жесты и мимические нюансы живы в памяти и двадцать лет спустя. В этом актёрском дуэте сценически воплощались некоторые из декларированных Игорем Северяниным постулатов, обобщённых им как "Лозунги моего эгофутуризма" (1924 г.): а) душа - единственная истина, б) самоутверждение личности, в) поиски нового без отрицания старого, г) смелые образы, д) осмысленные неологизмы"... ("Грёзофарс" как жанр - один из таковых неологизмов - был великолепно осмыслен режиссёром в сотворчестве с исполнителями дуэта.) Поиски же нового без отрицания старого проявились в кинематографической узнаваемости героев дуэта из "Свидания в Санлисе", которые невзначай воскрешали в памяти игру таких звёзд французского экрана, умеющих мастерски создавать образы внешне благонамеренных, но с "двойным дном" персонажей, как Даниэль Дарье (игравшая и в "бунтарской" пьесе Франсуазы Саган "Лиловое платье Валентины"), Жан-Клод Бриали, Жан-Пьер Кассель, Катрин Денёв...
В драматургии Жана Ануя, представляющей собою синтез принципов условной драмы и античного театра в формах "театра в театре", не раз встречаются колоритные персонажи, принадлежащие к артистическому сословию и волею судеб вынужденные играть роль не только на сцене, но и в жизни, озарённые неким, особенного спектра, экзистенциальным светом театральной рампы.
В "комедии с близнецами" "Приглашение в замок" героиня Ануя - молодая красивая актриса "из низов" поначалу - за солидный гонорар - соглашается разыгрывать роль великосветской девушки, но в финале, движимая желанием личного счастья, становится сама собой. Похожая участь и у главной героини пьесы Ануя "Дикарка".
А в "Эвридике" рядом с трагическими героями мифологемы Орфеем (который тут скрипач, играющий в кафе) и Эвридикой (здесь тоже актрисой, связанной контрактом) существует столь же колоритная пара (как и в "Свидании в Санлисе") немолодых актёров: это мать Эвридики Люсьена и её верный возлюбленный стареющий красавец Венсан. Люсьена и Венсан, числящиеся в убогой театральной труппе, на своём гастрольном пути в какой-то глухой провинциальный городок, где им предстоит играть какую-то непрезентабельную пьеску, чувствуют себя и ведут себя как звёзды первой величины, которым предстоит играть Мольера в "Комеди Франсез", что, конечно, смешно, а попутно - и это скорее трогательно - они увлечённо вспоминают незабываемые события своей бурной молодости, своего романа: вышитое английской гладью модное двадцать лет назад шёлковое платье, в котором он впервые увидел её и пригласил на пылкое мексиканское танго в шикарном ресторане на Французской Ривьере, вспоминают свои ссоры и примирения, свои сценические успехи... Люсьена и Венсан олицетворяют прямо-таки воинствующий гедонизм и при всём том они друг с другом совершенно счастливы. Подобной полнотой артистического бытия, чарующей, несколько старомодной галантностью Его по отношению к Ней, актрисе, даме, носящей звучное имя мадам Монталамбрез, искрятся грани и незабываемого сценического дуэта Лилии Мрачко с Владимиром Ефремовым, присутствовавшими на пленительном "Свидании в Санлисе", затеянном и устроенном режиссёром Дмитрием Черняковым.
Пьесы Жана Ануя, по определению "фигуративные" - в отличие от декларативно "нефигуративных", абстрактных пьес французского драматурга-абсурдиста Эжена Ионеско - легко воспринимаются публикой, любящей новизну театральных форм и приёмов, являемую без отрыва от сюжетно-характерного действа.
На театрах Литвы ставились многие сочинения Ануя: и "Жаворонок", и "Антигона" (1943 г.), ставшая, наряду с интеллектуальной драмой Жана-Поля Сартра "Мухи", театральным манифестом французского Сопротивления; ставились также "Путешественник без багажа", "Медея", "Оркестр".
Одновременно в других выбираемых к постановке режиссёрами Литвы произведениях 80-90-х годов минувшего века всё чаще наблюдалось такое (раньше чрезвычайно редкое) явление как "актёр в роли актёра". Вспомним, что в несметно богатом артистическими находками и художественными открытиями театральном произведении знаменитого литовского режиссёра Эймунтаса Некрошюса "Моцарт и Сальери. Дон Гуан. Чума", созданном по "Маленьким трагедиям" А.С.Пушкина, прелестная Лаура в исполнении Виктории Куодите представала воплощением вечных романтических мечтаний об Актрисе.
В трагической "Персоне" - спектакле Йонаса Вайткуса по сценарию одноимённого фильма шведского кинорежиссёра Ингмара Бергмана - безумие главной героини (её играла Эгле Микулёните) позволяло и создателям спектакля, и его зрителям, говоря словами Генрика Ибсена, "заглянуть в тот мир, о котором нам ничего не положено знать", хотя знаем о нём давно и немало. Это не просто закулисье с его обстоятельно отображённой в классической литературе специфической атмосферой, но Зазеркалье, аналогичное антиподу земного бытия, которое увековечено в фильме (и пьесе) Жана Кокто "Орфей", где экранный образ Орфея создал прославленный французский артист Жан Маре.
Иногда в представляемом на сцене Закулисье-Зазеркалье происходит не только процесс перевоплощения актёра в образ, но и взаимообратный процесс "выхода из образа" и путь, точнее, психологическое возвращение актёра к самому себе. Этот мотив развивал в спектакле по пьесе Уильяма Сарояна "В горах моё сердце" режиссёр этой постановки - известный также как поэт, прозаик и актёр Альвидас Шлепикас, а молодой тогда артист Эвальдас Ярас играл - почти без грима, перевоплощаясь внутренне - старого, бездомного, на чужбине умирающего артиста по имени Мак-Коннери, чьё сердце осталось в горах родной Шотландии, а предсмертное слово, сказанное им "на миру", есть слово шекспировское.
И в Каунасском, и в Русском драматическом театре Литвы игралась бинарная драма Теннесси Уильямса "Крик", герои которой - брат и сестра - тоже актёры, заблудшие в Закулисье, откуда нет для них иного выхода, кроме смерти, и никто в целом мире по ним не заплачет.
Трагическую актёрскую тему в "Крике" на каунасской сцене воплотили режиссёр Йонас Вайткус и актёры Долореса Казрагите и Викторас Шинкарюкас; в Русском драматическом театре Литвы "Крик" ставил Антанас Дирда, а роли исполняли Нийоле Казлаускайте и Владимир Серов. В спектакле же, поставленном известным литовским актёром и режиссёром Альгирдасом Латенасом по пьесе английского драматурга Рональда Харвуда "Костюмер", в центре мироздания - личность большого и широко признанного артиста-трагика, чью роль играл замечательный мастер литовской сцены и экрана Регимантас Адомайтис. Моменты художественно зафиксированного и осмысленного двойного перевоплощения высвобождают неожиданно много творческой энергии, именуемой иногда вдохновением.
Вероятно, воспроизводя и варьируя темы "театра в театре", актёры в ролях актёров стремятся (и им это не раз удавалось!) сохранить статус артистической братии как духовной общности, попутно умея сострадать и шутить, грустить и веселиться, разыгрывая то удалой дивертисмент, то пародию (подчас - и гротескного свойства) на самих себя. Это возвращает нас к "Свиданию в Санлисе", где Лилия Мрачко и Владимир Ефремов исполняли дуэт-дивертисмент на два голоса, где они в четыре руки по сюжетной канве изобретательно вышивали не простой суровой ниткой, но разноцветным шёлком причудливые узоры переменчивой актёрской судьбы во всей её шаловливой непредсказуемости.
Кстати, не всегда возможен путь из обители артистизма к самому себе (так, Несчастливцев, которого вскоре после "Свидания в Санлисе" предстояло сыграть Владимиру Ефремову в "Лесе" А.Н.Островского, не сумел стать самим собой - дворянином Геннадием Гурмыжским и вернулся на означенный ему судьбой странствующего трагика путь из Керчи в Вологду), не всегда игра наёмного артиста "в миру" безобидна и служит благородной цели (вспомним, как в новелле Стефана Цвейга "Страх" нанятая мужем неверной жены на роль вульгарной шантажистки безработная актриса играла так "убедительно", что едва не довела героиню до самоубийства).
Дуэт Мрачко и Ефремова в спектакле Чернякова имеет несколько неожиданный аналог в русской прозе: рассказ А.И.Куприна "На покое", повествующий о горьком житье-бытье старых безработных актёров в богадельне, отмечен любопытным наблюдением "Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в своё будущее: пройдёт сама собою болезнь, подвернётся ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнётся весёлая пряная актёрская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена". Этими словами можно определить и литературный трагикомический подтекст незабываемого коллизийного дуэта Лилии Мрачко и Владимира Ефремова в комедии Жана Ануя "Свидание в Санлисе".
* * *
Дмитрий Черняков своим - дебютным на сцене русского драматического ткатра Литвы - спектаклем "Свидание в Санлисе" успешно и памятно продолжил путь поисков этим коллективом модернистских и постмодернистских форм, выразительных средств и иных способов творческого обновления - путь, начатый спектаклями Ивана Петрова (1926 - 2012) "Картотека" (1979 г.) по пьесе польского автора Тадеуша Ружевича и "Год Быка" (1984 г.) по произведению, которое написал известный литовский драматург и прозаик Казис Сая; а также изумительным спектаклем выдающегося украинского актёра и режиссёра Григория Гладия "Приглашение на казнь" (1989 г.) по роману Владимира Набокова и режиссёрской дилогией Романа Виктюка, поставившего здесь в 1988 году "Уроки музыки" Людмилы Петрушевской и сценическую версию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". А за "Свиданием в Санлисе" последовали по-своему обновившие творческий путь театра - поистине магистральные спектакли замечательного, снискавшего международное признание режиссёра Владимира Мирзоева - шекспировское "Укрощение строптивой" и мольеровский "Тартюф" (2000 г.), славно ознаменовавшие рубеж веков и тысячелетий.
Творческая же судьба режиссёра Дмитрия Чернякова сложилась просто впечатляюще: он ставит вещи классиков мировой литературы Пушкина и Достоевского, Шеридана, Метерлинка и Бомарше... Его имя стоит на афишах театров Москвы, Милана, Парижа, Мадрида...
СЦЕНИЧЕСКИЕ ГЕРОИНИ ЛИЛИИ МРАЧКО
Известная актриса Русского драматического театра Литвы Лилия Мрачко окончила Государственную Консерваторию Литвы (ныне - Академия музыки и театра), где её педагогом был выдающийся режиссёр Леонид Лурье (1910 - 1983), ученик великого Соломона Михоэлса, а сокурсниками - ставшие признанными мастерами русской сцены артисты Михаил Евдокимов, Рената Вагнерите, Михаил Макаров, Дагне Якшявичюте и Владимир Ефремов (1942 - 2009), в дуэтах с которым Лилия Мрачко сыграла немало своих запоминающихся ролей.
Одна из первых больших ролей Лилии Мрачко - Юлия Мальцева в спектакле по прозе Павла Нилина "Жестокость", который в Русском драматическом театре Литвы поставил режиссёр Леонид Вайнштейн в 1968 году. В этом спектакле Веньку Малышева играл Владимир Ефремов, и предложенный Вайнштейном "жёсткий" сценический вариант "Жестокости" снискал признание и любовь зрителей, несмотря на то, что десятилетием раньше по экранам с огромным успехом прошёл "оттепельный" фильм "Жестокость" (1959 г.), поставленный режиссёром Владимиром Скуйбиным (1929 -1963), снятый оператором Тимофеем Лебешевым (который снял также известные киноленты "Девчата", "Мичман Панин", "Тишина", "Щит и меч") и с неповторимым актёром - "оптимистическим трагиком" Георгием Юматовым (1926 - 1997) в роли Веньки.
Подобная история произошла с пьесой Виктора Розова "Вечно живые", которая с ошеломляющим успехом шла в середине 60-х годов прошлого века на сцене московского театра "Современник", невзирая на мировой триумф снятого ранее по этому произведению фильма Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957 г.).
От героико-романтической эстетики и тематики Гражданской войны в "Жестокости" молодая актриса Лилия Мрачко уверенно перешла в современный ей мир сверстников - "шестидесятников", сыграв журналистку Лену в поставленном режиссёром Ефимом Хигеровичем спектакле "Возраст расплаты" (1969 г.) по пьесе Леонида Жуховицкого. Героиня "Возраста расплаты" - образованная, интеллигентная, привлекательная и принципиальная, умеющая находить благородное равновесие между чувством как импульсом души и поступком, была в исполнении Мрачко внешне непроницаемой, даже самоуверенной, а внутренне - глубоко ранимой, во многом сомневающейся и - по словам самой актрисы - "натянутой, как струна", ибо именно такое душевное состояние ей "предписал" режиссёр Хигерович. У Лены из пьесы Жуховицкого есть "сёстры по судьбе и времени" - киногероини литовской актрисы Эльвиры Жебертавичюте в фильме Витаутаса Жалакявичюса "Хроника одного дня" (1963 г.) и в ленте Раймондаса Вабаласа "Июнь, начало лета" (1969 г.); созданные в 60-х годах кинообразы российских актрис Ларисы Лужиной ("Тишина"), Жанны Болотовой ("Люди и звери", "Если ты прав..."), Тамары Сёминой ("День счастья", "Человек, которого я люблю").
Лилия Мрачко одарена не только талантом - как драматическим, так и комедийным, но и очаровательной артистической внешностью: высокий чистый лоб, огромные сияющие полнотой жизни светлые глаза, нежный овал лица, статная фигура, благородная осанка... "Любой костюм на ней хорош", и носит его актриса всегда с чувством стиля, обусловленного характером её героини из данного конкретного спектакля по данной конкретной пьесе.
К этой актрисе могли бы относиться слова героя пьесы англичанина Джона Осборна "Комедиант" - ветерана мюзик-холла Билли Райса, говорящего о красивых женщинах времён своей молодости: "Настоящие были леди. С такими не заговоришь, не сняв шляпы". Именно таковой Лилия Мрачко была в ролях даже типических героинь советских пьес, нередко привнося в эти сценические образы "дополнительную", сюжетом вовсе не предусмотренную, светскую внешность и внутреннюю изысканность, а также свойственное традициям европейской сцены сдержанное изящество рисунка роли, оттеняющее проявления славянского исполнительского темперамента.
Недаром немецкий режиссёр Д.Штайнке, в 1973 году ставивший в Русском драматическом театре Литвы драму глашатая "бури и натиска" Фридриха Шиллера "Разбойники", поручил Лилии Мрачко романтическую роль страстной, верной, благородной Амалии, играя которую, нельзя не вспомнить слова великого немецкого философа Гегеля: "Шиллер вкладывает всю свою душу в свой пафос, но вкладывает великую душу, вживающуюся в сущность предмета".
Лилия Мрачко запомнилась и в роли изнеженной и печальной героини из пьесы американского "абсурдиста" Эдварда Олби "Все в саду", которую в середине 70-х удачно ставила режиссёр Наташа Огай (в своё время интерпретировавшая "Эвридику" Жана Ануя на сцене Шяуляйского драматического театра с Пранасом Пяулокасом в роли Орфея и Кристиной Андрияускайте в роли Эвридики). А в спектакле режиссёра В.Гришко "Пролетая над гнездом кукушки" (по книге Кена Кизи, сценический вариант - Д.Вассермана) Мрачко чётко, безжалостно, в памфлетной тональности воплотила Сестру Ратшед. Надо заметить, что этот спектакль, датируемый 1984 годом, и снятый десятилетием раньше знаменитый американский фильм Милоша Формана "Полёт над гнездом кукушки" с неповторимым лауреатом премии "Оскар" за главную роль в нём Джеком Николсоном - весьма долгое время существовали "параллельно" в художественном пространстве Литвы, примерно так же, как в 60-х годах - экранная "Жестокость" В.Скуйбина и сценическая "Жестокость" Л.Вайнштейна.
Недюжинное комедийное дарование Лилии Мрачко проявилось во многих ролях, в том числе - в роли Улиты из комедии Александра Николаевича Островского "Лес", которую в 1994 году на сцене Русского драматического театра Литвы ставил режиссёр Ювеналий Калантаров, озаглавивший этот свой спектакль "Несчастливцев и другие". Одна из этих "других" и была незабываемо представляемая Лилией Мрачко ключница Улита - обольстительная, нарядная, как кукла на чайнике, с красной розой в причёске (хоть Карменсите впору!), отчаянно кокетничавшая с весьма ею заинтересованным Аркадием Счастливцевым, которого блестяще, с отчаянной лихостью, в ритмах народных любовных куплетов играл известнейший актёр Михаил Евдокимов. Так, омолодив и обратив своих "подневольных" персонажей из "Леса" "лицом к свободе чувств", Мрачко и Евдокимов разыграли слаженный и весёлый, подлинно раёшный дуэт!
В спектакле же режиссёра Линаса-Мариюса Зайкаускаса, бывшего тогда художественным руководителем Русского драматического театра Литвы, "На отшибе мира" (1995 г.), созданном по мотивам театрального сценария видного польского писателя, режиссёра и актёра Тадеуша Кантора "Велёполе, Велёполе...", Лилия Мрачко выразительно и жизнерадостно сыграла обаятельную Старуху - создала образ-символ, каковыми являются и все прочие персонажи этого памятного ритуального сценического произведения.
"Я радуюсь, что режиссёру Линасу Зайкаускасу удалось своим спектаклем передать дух творчества Кантора", - писала о спектакле "На отшибе мира" известный и влиятельный литовский театральный критик Аудроне Гирдзияускайте.
Огромной творческой удачей Лилии Мрачко стал созданный ею изысканно фигуративный образ безработной актрисы Мадам Монталамбрез в спектакле приглашённого на эту постановку в Русский драматический театр Литвы московского режиссёра Дмитрия Чернякова "Свидание в Санлисе" (1994 г.) по одноимённой "розовой комедии" выдающегося французского драматурга-модерниста Жана Ануя (1910 - 1987).
Партнёром Лилии Мрачко по бинарной сюжетно-исполнительской коллизии в том сценическом представлении был именитый артист Владимир Ефремов.
Актриса любезно согласилась поделиться воспоминаниями и размышлениями о спектакле "Свидание в Санлисе", о своей героине, о природе и специфике сценических дуэтов.
ЛИЛИЯ МРАЧКО: "ШКОЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" И "ШКОЛА ПЕРЕЖИВАНИЯ" ОДИНАКОВО МНЕ БЛИЗКИ..."
Татьяна Балтушникене: Уважаемая госпожа Мрачко, в обширном перечне Ваших сценических героинь значатся женщины разных национальностей, принадлежащие к различным национальным культурным полям: русские, американки, немки, польки, англичанки... Какое место среди них занимает в Вашей памяти экстравагантная француженка Мадам Монталамбрез из спектакля Дмитрия Чернякова "Свидание в Санлисе"?
Лилия Мрачко: Роль Мадам Монталамбрез мне очень дорогá и памятна: это ведь была моя первая героиня - француженка, из французской пьесы, да ещё такого всемирно известного драматурга, как Жан Ануй! Необходимые для воплощения этого образа выразительные средства я искала, обращаясь к французскому искусству: мне хотелось сыграть свою роль в пьесе Ануя легко, изящно, с той любовью, которую мы, русские, питаем ко всему, что связано с Францией, с Парижем. Едва получив назначение на роль, я взяла со своей книжной полки огромный альбом "Музеи мира" и принялась внимательно рассматривать женские портреты и фигуры, запечатлённые на картинах французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов. Разглядывая эти шедевры живописи, я размышляла о том, что и как привнести во внешний сценический облик Мадам Монталамбрез, и выбирала, полагаясь на свой вкус: вот этот взгляд из-под полей шляпки, вот этот поворот женской головки, вот этот плавный изгиб руки, - всё нам пригодится! Попутно я переслушивала песни Эдит Пиаф, Мирей Матье, а также только начинающей тогда свою карьеру Патриции Каас.
Я перелистывала и французские журналы мод, поскольку они учат нас умению носить платье с особенным парижским шиком. Вспоминались, разумеется экранные портреты, воссозданные мастерицами французского кино, особенно моей любимой актрисой Фани Ардан, умеющей сочетать в своих ролях глубокую страстность и внутренний трепет с рафинированной внешней пластикой. Вспоминались мне и женщины из французских книг - героини романов Бальзака, Мопассана, Флобера: какие бы события ни случались в их жизни, они, эти женщины, оставались красивыми, ухоженными и обольстительными.
Т.Б.: Спектакль Дмитрия Чернякова, показанный два десятилетия тому назад, запомнился именно "нездешней" жизнерадостностью, изысканностью и новизной художественных форм, артистической лёгкостью сценического бытия. Как вы с коллегами овладевали эстетикой, предложенной тогда начинающим (как и Патриция Каас), а ныне снискавшим международную известность режиссёром?
Л.М.: Дмитрий Черняков приходил на любую из репетиций со своим чётким видением той или иной сцены и, что очень важно, с детальнейшей режиссёрской разработкой каждой мизансцены и каждой роли, предлагаемой нам, исполнителям. Репетиции "Свидания в Санлисе" были для меня тяжелейшим трудом: надо было тщательно и точно воспроизвести очередной сложный и неординарный режиссёрский замысел. Начали мы работу над моей ролью с уточнения походки героини и её манеры двигаться. Черняков мне говорил: "Ты не просто идёшь, ты вообще не идёшь, а плывёшь летящей походкой!" И будь добра - изображай такое! Ещё Дмитрий велел нам не перегружать себя избыточным психологизмом, уточняя свою мысль так: "В тебе, Лиля, как в актрисе уже заключён и готов образ, суть которого - артистизм". Меня же постоянно обуревали сомнения, но Дмитрий Черняков, наставляя нас, попутно всякий раз утешал, ободрял и заверял, что "всё обязательно получится".
Т.Б.: Кто же такая Ваша героиня из того "Свидания в Санлисе"? Мы, конечно, понимаем, что она - безработная актриса средних лет, согласившаяся на, честно говоря, несколько сомнительную творческую сделку. Однако какие-то подробности её биографии Вам, вероятно, пришлось придумать или "домыслить" (не перегружая роль нежелательным "избыточным" психологизмом)?
Л.М.: Конечно, по классическим книгам и зарубежным фильмам мне пришлось "домыслить" роль, повествующую об участи безработной актрисы, тем более, что в реальной тогдашней нашей жизни - в краю государственных репертуарных театров - безработных актрис не было и быть не могло. А в довоенной Франции они были, и одна из них - Мадам Монталамбрез (возможно, это и псевдоним - звучное сценическое имя). В видавшем виды чемодане она десятилетия напролёт носит своё единственное шикарное платье, надевая его лишь от случая к случаю, от ангажемента к ангажементу. Эти актёры - Он и Она - когда-то были знамениты, причём, больше в своём воображении, чем на самом деле. Ведь, если бы они вправду были так знамениты, как уверяют, их на том "Свидании в Санлисе" сразу узнали бы все там присутствующие. Их бы вмиг "распознали" даже "в ролях" якобы респектабельных родителей главного героя пьесы - фантазёра и проказника Месье Жоржа, которого, напомню, легко и весело играл Александр Агарков. Мне же с партнёром по дуэту необычайно повезло - им был мой однокурсник, давний коллега и замечательный артист Владимир Ефремов, к прискорбию, уже и безвременно ушедший от нас в мир иной.
Т.Б.: Ваш с Владимиром Ефремовым сценический дуэт, являющийся одной из коллизий "Свидания в Санлисе", доподлинно стал "спектаклем в спектакле" на тему "актёры в ролях актёров" и привнёс в карнавально изысканную и оттого своеобразную общую атмосферу пьесы сугубо отличительный момент "двойного преломления" артистической сущности. Как вам это удалось? Как работалось с Владимиром Ефремовым в других спектаклях?
Л.М.: Наверное, общим художественным принципом нашего с Ефремовым дуэта в спектакле Чернякова была харáктерная противоположность наших героев: моя героиня являла воплощённый оптимизм, а его персонаж - пожилой, тоже безработный актёр, был по натуре человеком мизантропического склада, прямым потомком своего литературного соотечественника Альцеста из мольеровского "Мизантропа". Классическое начало, обусловленное разностью "натур" персонажей, сочеталось в нашем дуэте с модернистской природой пьесы Ануя и постмодернистской режиссёрской концепцией, что и давало живой, сиюминутный артистический эффект. Играть в сценическом дуэте с Владимиром Ефремовым всегда было истинным наслаждением. Часто он играл так, что мы, партнёры по спектаклю, в тот момент не занятые на сцене, стоя за кулисами и глядя на него, не могли сдержать смеха или слёз, независимо от того, шёл то первый, премьерный спектакль иль сотый.
Помню, как плакала я, наблюдая из-за кулис игру Ефремова в финале спектакля "В списках не значился" (по пьесе Бориса Васильева), когда герой его перед расстрелом говорит: "Я - русский солдат".
(...) Блестящий актёр, Владимир Ефремов на всякую репетицию приходил со своим видением роли, мог долго спорить с режиссёром и убедить постановщика в своей правоте, а меня, если нам предстояло играть какую-либо дуэтную коллизию, уводил за кулисы, чтобы где-нибудь "порепетировать до репетиции". Он постоянно в себе сомневался и никогда не знал покоя.
Вспоминается наш давний с Ефремовым дуэт - в спектакле по пьесе Михаила Рощина "Валентин и Валентина", который в 1971 году ставил Роман Виктюк. Ефремов играл Валентина, а я - Дину, и мы с ним за этот дуэт получили звание лауреатов театрального года. (Любопытно, что в начале 1972 года режиссёр Иван Петрович Петров поставил тут же, в Русском драмтеатре Литвы, пьесу Жана Ануя (!) "Пассажир без багажа".)
А в чеховской "Чайке", поставленной у нас украинским режиссёром Эдуардом Митницким, Ефремов исполнял роль доктора Дорна, а я - бедной Полины Андреевны, которая всю жизнь любила Дорна любовью истинной и неизбывной.
Шли десятилетия, работать с Ефремовым доводилось часто, что бывало сложно и трудно, но результат, как правило, вознаграждал за всё. Так случилось и в спектакле Чернякова. Владимир Ефремов, знаете ли, мог даже в день премьеры прийти в театр ранним утром и там - в единственном числе, в своём единственном лице, уже в театральном костюме, на ещё пустой сцене - серьёзнейшим образом репетировать и репетировать, готовясь к вечернему премьерному спектаклю. Он был очень эрудирован, начитан. Был настоящим Актёром.
Т.Б.: Оказал ли влияние спектакль "Свидание в Санлисе" на Вашу дальнейшую творческую жизнь?
Л.М.: Конечно! Когда же нет! Долгое время спектакль Дмитрия Чернякова оставался произведением уникальным, служил художественным эталоном. Мы, все игравшие в нём актёры, вспоминаем это сценическое произведение как этапное в нашей театральной жизни.
Т.Б.: Вы играли в пьесе Ануя с проникновенной нежностью, с лёгкой иронией и с любовью к своей героине и... к автору. Как Вы относитесь к французской артистической "школе представления", которую привычно противопоставляют исконно русской "школе переживания"?
Л.М.: "Школа представления" и "школа переживания" одинаково мне близки. Я люблю сочетание этих школ как сочетание полного духовного взаимопроникновения с образом и внешней элегантности, добиться которого помогают и французская живопись, и поэзия Мюссе, Бодлера, Рембо, Малларме, и проза с драматургией (не только Ануй, но и Жироду, а также жестокий Жене с его "Служанками" и "Балконом").
Психологизм превалирует в начале работы над ролью, но потом - моими стараниями - он должен стать почти незаметным, тогда как внешняя отделка образа постепенно становится главным предметом работы, и вот тут-то постулаты французской "школы представления" приобретают для меня всё бóльшую важность.
Т.Б.: Согласны ли Вы с мнением исследователя Парижской школы живописи и русского импрессионизма - Михаила Германа, сказавшего, что для французов в искусстве главное - истина, а для русских - мораль? Что важнее для Вас - мораль или истина?
Л.М.: Мне, как Аристотелю, всё-таки истина дороже.
Т.Б.: Спасибо за беседу.
2013 - 02 - 14
ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ЕФРЕМОВА (1942 -2009)
Ведущий артист Русского драматического театра Литвы Владимир Иванович Ефремов четыре с половиной десятилетия работал на этой сцене, куда пришёл в 1964 году, сразу после окончания актёрского факультета Государственной Литовской Консерватории (ныне - Академия музыки и театра).
Созданные им образы живы в памяти благодарных зрителей разных поколений и разных национальностей, ибо Владимир Ефремов был одарён светлым, звучным и многомерным драматическим талантом: классически выверенный рисунок роли, интеллект, глубина переживания, недюжинное чувство юмора сочетались в его творчестве на удивление гармонически, будучи притом неизменно ориентированными на смыслы как режиссёрской концепции, так и авторской, заключённой в данном литературном произведении.
В каких только временах и краях не обретались сценические герои Владимира Ефремова, герои, счёт которым шёл уже не на десятки, а на сотни! Почти каждая роль артиста становилась событием в театральной жизни Литвы. На долгие годы запомнился зрителям вдохновенно сыгранный Ефремовым Билл Старбак - Продавец дождя из одноимённой пьесы американского драматурга Ричарда Нэша. (Как ни удивительно, это имя обнаруживаем в "Зоне" Сергея Довлатова, где он пишет 11 июня 1982 года: "Этот большой кусок я переправил через Ричарда Нэша. А ведь он почти что коммунист. Тем не менее занимается нашими вздорными рукописями. Всё дико запуталось на этом свете".) Итак, Нэш переправлял из СССР в США принадлежащие перу Довлатова нелегальные тексты, вошедшие в состав "Зоны".
Спектакль же "Продавец дождя" режиссёр Роман Виктюк поставил в 1973 году на сцене Русского драматического театра Литвы так искренне и тонко, что, казалось, и зрители вместе с романтическим героем Ефремова - Биллом не только там, в изнывающей от засухи американской глубинке, но и тут, у себя дома, устремлялись к звёздам, презирая всякий расчёт и суету сует.
А вместе с другим героем Владимира Ефремова - нищим эмигрантом Альваро из драмы Теннесси Уильямса "Татуированная роза" в постановке Ивана Петрова - видели мы избавление от зол и бед во внезапно обретённой любви. С пережившим же катастрофу бизнесменом Фэлтом - центральным персонажем "поздней" драмы Артура Миллера "Вниз с горы Морган", которую в 2000 году ставил Юрий Попов, можно было совместно размышлять о превратностях прожитой жизни.
Юрий Попов говорил: "Эта пьеса, жанр которой сам Артур Миллер определил как трагифарс, предназначена в общем (...) для выявления того, что творится в душе человека, оказавшегося в тупике. Исследование ситуации духовного тупика приводит к необходимости посмотреть правде в лицо, признать диалектику чувства" ("Летувос ритас" 13 октября 2000 г.). Владимир Ефремов сыграл Фэлта в заданных режиссёром смысловых и эмоциональных координатах.
На нашей, скажем так, стороне глобуса - в советских и постсоветских временных и бытийных параметрах, на кругах эстетики экзистенциализма с его чувством "пограничной ситуации" и трагическим мироощущением - в облике Владимира Ефремова существовали (всегда - главные!) герои известных произведений. Это Валентин из "молодёжной драмы" Михаила Рощина "Валентин и Валентина" в постановке Романа Виктюка и сыгранный (в середине 80-х) словно бы "со шрамом на сердце" трагический, но способный - по выражению Вахтангова - "взметнуть" булгаковский Мастер в спектакле того же именитого режиссёра "Мастер и Маргарита".
Помнится и страдающий, на глазах наших трудно взрослеющий Олег из спектакля Ивана Петрова "Жили-были..." по пьесе А.Казанцева "Старый дом", и современный ему по 70-м годам центральный мужской образ в поставленной также И.Петровым драме Эдварда Радзинского "Она в отсутствии любви и смерти" - человек, с горечью осознавший, что "у него не было этого лета".
А как читал на одном из концертов Владимир Иванович тургеневских "Певцов"! Словно душу выпевал!
Не раз известному артисту доводилось воплощать на русской сцене Литвы героев мировой классики: гоголевского Чичикова из "Мёртвых душ" (постановка Виталия Ланского, 1977 г.), который читал монолог о "птице-тройке", трясясь и подпрыгивая в своей бричке на бесконечных ухабах раздольного бездорожья; мрачного шекспировского Макбета в интерпретации Линаса-Мариюса Зайкаускаса и - поистине великолепного мольеровского Тартюфа, который в спектакле приглашённого маэстро Владимира Мирзоева прямо-таки отражался в бессчётных гранях огромного зеркального шара, бывшего и декорационным, и смысловым центром бессмертной комедии. Говоря о восхитительном "Тартюфе" Мирзоева, можно отнести к нему слова из прозы А.И.Куприна, характеризующие сложнейший цирковой номер, - "Легче воздуха!"
Простился же Владимир Ефремов со зрителями бенефисно исполненной ролью Репетилова в поставленной весною 2009 года выдающимся литовским режиссёром Йонасом Вайткусом комедии Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума". Монологи Репетилова звучали привольно, а внешне и мизансценно этот персонаж был точно таким, каким изображён на известной иллюстрации Д.Кардовского: "Горе от ума". Действие IV, явление 4", а именно: распростёршись на полу, в шубе, рядом со свалившимся цилиндром вёл роль Ефремов, чаруя иронической поэтикой, широтою словесных жестов.
Особое, сокровенное место в творчестве Владимира Ефремова занимали персонажи пьес "Колумба Замоскворечья" - великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Это колоритный Самсон Силыч Большов в комедии "Свои люди - сочтёмся" (режиссёр Валюс Тертелис), Несчастливцев в "Лесе", спектакле, которому режиссёр Ювеналий Калантаров неспроста дал заглавие "Несчастливцев и другие", ибо Ефремов - Несчастливцев на своём вечном пути "из Керчи в Вологду" всерьёз намерен был, как славный русский критик-демократ Аполлон Григорьев, "не в бирюльки играть, а дух из тьмы изымать". Владимир Ефремов о своих героях знал буквально всё.
В одном из интервью он рассказал мне, что прототипом Несчастливцева и первым исполнителем этой роли был известный русский актёр-трагик Николай Рыбаков, чьё имя упоминается в тексте "Леса": "В последний раз (...) играл я Велизария, сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо... (...) "Ты, говорит... да я, говорит... умрём, говорит," - рассказывает, "оттирая слёзы", Несчастливцев Счастливцеву. Как тут не вспомнить "воспоминание" Хлестакова в "Ревизоре": "С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё..."
Упомянутую в "Лесе" роль Велизария (знаменитого полководца византийского императора Юстиниана) из одноимённой исторической драмы Э.Шенка в переводе П.Ободовского играли в 40-х годах XIX века многие русские трагики, и прежде всех - великий Василий Андреевич Каратыгин, заставивший - в сцене триумфа Велизария - даже сурового Виссариона Григорьевича Белинского, по собственному признанию гениального русского критика, "испытать священный восторг, потрясший всё его существо". Зачитывавшийся статьями Белинского харьковский театральный критик Александр Яковлевич Кульчицкий (1815 -1845) - идеалист и романтик, писал о Н.Х.Рыбакове в роли Гамлета: "Всё было просто и оттого хорошо". Успех артиста определяется "внутренним глубоким сочувствием к положению представляемого лица". А известный воронежский театральный критик Михаил Фёдорович Де-Пуле (1822 -1885) писал о Николае Рыбакове (увидев этого актёра в роли Уголино из одноимённой драмы Н.А.Полевого): "Понятие истинного трагического актёра указывает уже само собою назначение его таланта: представить сильную страсть человека, занятого какой-нибудь идеей и находящегося в борьбе с разного рода препятствиями, представить всю силу и мощь духа человеческого, которого не в состоянии одолеть никакое несчастье, выразить в то же время всю глубину страдания, которое испытывает человек в борьбе с роком". ("Воронежские губернские ведомости 2 июня 1851 года)[2]
Эти слова Михаила Де-Пуле, чьи художественные воззрения складывались под воздействием испытавшей влияние немецкого романтизма философской и филологической школы Харьковского университета, вполне могут относиться и к Несчастливцеву, сыгранному Владимиром Ефремовым.
Завершает же триптих созданных вильнюсским русским трагиком героев Островского образ бедного чиновника Маргаритова из пьесы "Поздняя любовь". Этой великолепно сыгранной ролью - в спектакле режиссёра А.Гришкевича - Владимир Ефремов в 1992 году отмечал своё пятидесятилетие, привнося в сценический облик и характер Маргаритова гуманистический пафос русской литературы и ею от века декларируемое высокое сострадание к "маленькому человеку", тоже вышедшему из гоголевской "Шинели", но - в отличие от одинокого как перст Акакия Акакиевича - имеющему взрослую дочь.
Действие "Поздней любви", датируемой 1873 годом (когда А.Н.Островскому тоже исполнилось пятьдесят лет, и ещё предстояло создать такие пьесы, как "Волки и овцы", "Последняя жертва", "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые") происходит на окраине Москвы, где и случаются эти, по определению гениального драматурга и современные ему "сцены из жизни захолустья". Тамошнюю и тогдашнюю жизнь характеризует, обращаясь к своей безмерно любимой единственной незамужней дочери бедный, но благородный и неподкупный Маргаритов: "Здесь, Людмилочка, страна голодная, народ живёт изо дня в день, что урвёт, тем и сыт. (...) Здесь всё украдут и всё продадут, а ловкие люди этим пользуются".
"Поздняя любовь" - драма любви, совести и чести. В основе её сюжета, тем не менее, лежит денежный документ (как и в "Норе" у Ибсена) - некий вексель, то есть долговое обязательство, которое Людмила, обожаемая дочь Маргаритова, тайно похищает из бумаг отца, движимая страстной, но почти безнадёжной любовью к красавцу-стряпчему Шаблову, который поначалу влюблён совсем не в эту, всем существом ему преданную девушку, а в живущую по соседству обольстительную вдову, задолжавшую по упомянутому обязательству. Узнав о проступке дочери, Маргаритов, поражённый горем, великодушно прощает Людмилочку, и эмоциональную доминанту этого образа, созданного Владимиром Ефремовым со всей силой трагического откровения, составляет святая и безмерная отцовская любовь.
Аналогами этого чувства - самозабвенной родительской любви немолодого отца к единственной дочери - могут быть любовь старого князя Болконского к княжне Марье - в "Войне и мире" Л.Н.Толстого, любовь Сомса к Флёр в "Саге о Форсайтах" Голсуорси. (Но, в отличие от Людмилы Маргаритовой, княжна Марья - богата, а Флёр - красива.)
"Деточка моя!" - с тихим отчаянием взывал к своей бедной невзрачной, без матери выросшей дочери, прижимая её к сердцу, воплощённый Владимиром Ефремовым несчастный Маргаритов, и по лицу его градом катились слёзы, а интонационный строй произносимых здесь актёром монологов Островского был созвучен и душевно тождествен поэзии Николая Алексеевича Некрасова, чей скорбный стих с его - Владимиром Набоковым отмеченной и оценённой - "рыдающей цезурой" доселе не имеет себе равных.
Казалось бы, что общего между принадлежащим традициям русского классического искусства Маргаритовым и героем Ефремова из модернистской французской комедии Жана Ануя "Свидание в Санлисе" - импозантным и самоуверенным актёром, который, пусть на птичьих правах, но вхож в зáмки?
Объединенные личностью артиста Ефремова, эти двое персонажей, при всей их жанровой и характерной разности, смотрели на мир и на нас, зрителей, одинаково печальным взглядом человека, на чью долю выпало немало испытаний, горестей и унижений. С Несчастливцевым же из "Леса" героя пьесы "Свидание в Санлисе" роднит тернистая актёрская стезя, по которой оба они - каждый в своём отечестве - шагают в ногу. Об этих героях артист говорил в данном мне интервью 1995 года.
* * *
Татьяна Балтушникене: Позвольте спросить, уважаемый Владимир Иванович, есть ли какая-нибудь сугубо актёрская черта, которую Вы считали бы всеобщей, создавая обаятельные сценические портреты собратьев по профессии в спектаклях "Несчастливцев и другие" и "Свидание в Санлисе"?
Владимир Ефремов: Актёр - это профессия, и у каждого из актёров - своя судьба. Но всех их (нас) я условно делю на две категории: есть просто актёры и есть "люди театра" - те, о ком писал в своей одноименной книге Владимир Гиляровский. Актёров много, "людей театра" - гораздо меньше. Сыграть актёра, по-моему, невозможно, но "человека театра" можно попытаться сыграть. Для "людей театра" игра на сцене есть способ существования, они отдают театру всё, они ради театра теряют многое, очень многое! подчас - слишком многое, но по-другому они не могут! И Несчастливцева в нашей интерпретации "Леса", и безработного артиста из "Свидания в Санлисе" я считаю и стремлюсь показать именно "людьми театра". Не то, чтобы они были не от мира сего - отнюдь! Но им хочется прежде всего признания, отклика душевного, которые для них важнее, чем слава и деньги. Судьба таких людей чаще всего драматична.
Т.Б.: Ваш элегантный, рафинированной пластикой отличающийся персонаж из "Свидания в Санлисе" в изрядной мере кинематографичен: он - в Вашем облике - ведёт свою "роль в роли", свою партию искромётного сценического дуэта с коллегой Актрисой, которую так же тонко, виртуозно играет Лилия Мрачко, с чисто французской непринуждённостью и манер, и речей, воскрешая в памяти целый ряд работ прославленных мастеров французского экрана - от Макса Линдера до Фернанделя. Что, по-вашему, означает и значит кино как феномен в судьбе известного театрального артиста?
В.Е.: Тут важно, о каком театральном артисте идёт речь. Одно дело - сниматься часто: тогда экранное творчество, несомненно, расширяет пространство сценического существования. Я же как сугубо театральный актёр столь сильного повседневного влияния кино во взрослой своей жизни не испытал. Влияние было иное - в моём послевоенном детстве, в ранней юности кино было едва ли не единственным (кроме книг) окном в мир. Кино давало возможность переместиться из будничной жизни в жизнь совсем иную. Мы, будучи мальчишками, часами простаивали в очередях за билетами, зарабатывали какие-то копейки, чтобы пойти в кино, а иногда мы проникали в кинотеатр без билета - на "трофейные" фильмы, такие как "Сети шпионажа" ("Гибралтар") Фёдора Оцепа с участием Эрика фон Штрогейма, игравшего и в "Великой иллюзии" Жана Ренуара; "Индийская гробница" (режиссёр Май) с великолепным Конрадом Фейдтом в роли князя Эшнапурского, а ещё "Большой вальс" с чарующей Милицей Кориус в роли возлюбленной Штрауса певицы Карлы Доннер. Когда мне было десять лет, я был в неё влюблён.
Т.Б.: "Большой вальс" ведь недаром снят пусть на американской фирме МГМ, но режиссёром - французом Жюльеном Дювивье, за год до того поставившим дома, во Франции, "Пепе ле Моко" с Жаном Габеном, а после войны, в Англии - "Анну Каренину" с Вивьен Ли.
В.Е.: Слава Богу, что братья Люмперы - Луи и Огюст - сто лет тому назад в Париже, в подвале "Гран кафе" показали "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота", "Политого поливальщика" и что-то там ещё! Кино подарило миру искусств "крупный план", эквивалентом которого в театре для актёра является предельная внутренняя эмоциональная концентрация в той сцене, где внешне, казалось бы, ничего не происходит.
Театральные эквиваленты "крупных планов" преобладали в лирико-драматических актёрских дуэтах, которые Владимир Ефремов "на предельной драматической эмоции" незабываемо играл с Татьяной Майоровой в "Татуированной розе" Т.Уильямса, с Ольгой Демичевой в спектаклях "Она в отсутствии любви и смерти" и "Жили-были...", с Валентиной Мотовиловой в "Мастере и Маргарите" М.Булгакова, с Михаилом Евдокимовым в спектакле Л.-М.Зайкаускаса "Берег неба" и в "Лесе" А.Н.Островского, и, конечно же, с Лилией Мрачко ("Свидание в Санлисе"), тем более, что герои этой и некоторых других пьес Жана Ануя жили в той же предвоенной Франции, что и, например, персонажи ставшего классикой трогательного фильма рано умершего французского режиссёра Жана Виго "Атланта" (1934 г.) с участием колоритного актёра Мишеля Симона, герои драматических кинолент режиссёра Марселя Карне "Набережная туманов" (1938 г.) и "День начинается" (1939 г.), где обе главные роли сыграл гениальный Жан Габен.
Т.Б.: Не кажется ли Вам, что престиж театрального артиста и сцены как его местопребывания растёт на глазах, ибо в театре всё чаще играют "кинозвёзды" - Ален Делон, Аль Пачино...
В.Е.: И Бельмондо, и Депардье... Но сколько помню, престижность профессиональная и в прошлом зачастую определялась принадлежностью артиста к театру, и прежде всего - к классическому репертуару. так что, возможно, не престиж театра растёт, а "кинозвёзды" получают меньше предложений сниматься в ролях, достойных их таланта (хотя мне весело смотреть на Жана-Поля Бельмондо даже в экранных "пустячках"), и ищут себе дело. Это большие актёры, и их тянет на сцену, где они "дополняют театром" экранную творческую недостаточность, как, наверное, "чисто театральные" артисты дополняют - при удачном случае - своё творчество кинематографом.
Т.Б.: Спасибо за беседу и за Ваши роли.
* * *
P.S.: Своё творчество Владимир Ефремов удачно дополнил кинематографом, снявшись в фильме известного литовского кинорежиссёра Гитиса Лукшаса "Омут" (2009 г.), созданном по одноимённому роману мастера литовской трагической прозы Ромуалдаса Гранаускаса. В этом романе изложена печальная биография молодого человека, приезжающего из глухой деревни на заработки в большой город, в котором угадывается Клайпеда конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века. Владимир Ефремов - мастерски, с огромной психологической и исторической точностью и с глубокой сострадательностью, но без тени ностальгической сентиментальности - сыграл в "Омуте" старожила рабочего общежития, немолодого человека, изрядно повидавшего на своём веку, но искренне любящего молодёжь, которой он всегда готов помочь советом, пособить в трудную минуту. Этот кинообраз Владимира Ефремова, созданный в литовском кино XXI века, очень близок прозе Георгия Владимова и других известных русских писателей-"шестидесятников".
ЕЛЕНА МАЙВИНА И СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ В СПЕКТАКЛЕ РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЛИТВЫ "НЕДОРОСЛЬ" ПО КОМЕДИИ ДЕНИСА ФОНВИЗИНА (РЕЖИССЁР БОРИС ЮХАНАНОВ. 1999 год)
БУКЕТ ИЗ ЦВЕТОЧКОВ С ЦАРИЦЫНА ЛУГА
Из литературных источников известно, что премьерное представление гениальной комедии "Недоросль", принадлежащей перу замечательного русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина (1745 -1792), состоялось 24 сентября 1782 года в деревянном театре на Царицыном лугу, где первым исполнителям "Недоросля" - актёрам петербургской придворной труппы "публика аплодировала пьесу метанием кошельков", то есть пришла в такой восторг, что разом оплатила и дань восхищения, и гонорар.
Первым же режиссёром бессмертной комедии был сам автор пьесы (на тот момент тридцатисемилетний) Денис Фонвизин, пламенный сатирик и просветитель, который незадолго до первого показа своего лучшего детища - "Недоросля" ушёл с придворной государственной службы, не видя в ней более проку (он подал официальное прошение об отставке, которое императрица Екатерина II тотчас же подписала), и мог, отныне свободно собою располагая, отдавать все силы творческой деятельности, как то: ставить свои пьесы на театре, разучивать с актёрами роли, участвовать в составлении полного толкового словаря русского языка, сотрудничать в журнале "Собеседник любителей российского слова", на страницах которого не раз сочетал просветительскую миссию с социально обличительной. ("Разумением называется способность примечать бесчисленные отношения во всеобщей стройности вещей", - писал Фонвизин. "Звание есть должность, в службе отправляемая, чины суть степени чести, на которые государь достойных людей возводит. Можно иметь звание без чина, но стыдно брать чины без звания", - наставлял читателей XVIII века Фонвизин в своём труде "Опыт российского сословника", напечатанном в "Собеседнике".)
Памятуя об этом, овеянном легендами, прошлом "Недоросля", составившего со сценическими шедеврами "Горе от ума" А.С.Грибоедова и "Ревизором" Н.В.Гоголя непревзойдённую триаду славных образцов русской реалистической сатирической комедии, смотрели мы постановку "Недоросля", в 1999 году осуществлённую на сцене Русского драматического театра Литвы московским режиссёром Борисом Юханановым.
Все авторские условия в этом спектакле были соблюдены весьма точно: и вера в силу разума, общая для всего Просвещения, и классические три единства - наличествовали, причём особое внимание было уделено единству места, в заботах о котором московский сценограф Юрий Хариков смоделировал семейное обиталище Простаковых как некое интеллектуально-бытовое пространство, где, по мысли Фонвизина, "вреднейшие предрассудки" возможно "истребить временем и знанием" (это сказано Фонвизиным в трактате "Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание"[3]).
Текст комедии "Недоросль" в вильнюсском спектакле Бориса Юхананова звучал в сокровенной и первозданной своей целостности: все без сокращений дидактические монологи, все архаизмы, в том числе синтаксические, произносились со сцены актёрами с почти музейным благоговением.
Такая литературная и исполнительская почтительность способствовала воспроизведению в спектакле "Недоросль" той атмосферы душевной, которая располагает "с сердцем посоветоваться" и даже упустить из виду тот факт, что ключ к интриге сделан всё-таки из "презренного металла" - те десять тысяч, которые даёт за идеальной невестой Софьей в приданое её дядюшка и рупор авторских идей - почтенный Стародум.
В итоге русский провинциальный дворянский быт в "Недоросли" Б.Юхананова, несмотря на весь меркантильный интерес, владеющий мыслями персонажей, предстал чуточку опоэтизированным, наделённым семейной задушевностью, словно отзвуком семейного предания.
С константой времени - хлопот немало, поскольку ещё в комедии "Бригадир" (1769 г.) Фонвизин стал перед дилеммой: галломания или домострой (в "Бригадире" досталось на орехи галломанам, в "Недоросли" - домострою, понимаемому как деревня лыкова помещика дикого). Будучи, по словам Пушкина, "другом свободы" и "сатиры смелой властелином", Фонвизин как комедиограф черпал вдохновение во Франции, что запечатлел в признании: "Кто не видел комедии в Париже, тот не имеет прямого понятия, что есть комедия". Фонвизин, как и его единомышленники по Елагинскому кружку (то были молодые, образованные русские дворяне, сплотившиеся в 60-х годах XVIII века вокруг поэта, переводчика И.П.Елагина, влиятельного вельможи и статс-советника, управляющего "придворной музыки и театра"), искренне желал "обновить русскую комедию", полагая, что комедии "Опекун", "Лихоимец", написанные его предшественником, видным представителем русского классицизма Александром Петровичем Сумароковым (1717 - 1777), являются "слишком иностранными". И обновил, став создателем комедии "Недоросль", однако ж взятое из мольеровского "Мещанина во дворянстве" (1670 г.) комическое трио домашних учителей Митрофанушки (Вральман, Кутейкин и Цыфиркин) пришествовало в "Недоросль" слегка окольным путём, пролегавшим через комедию "Тресотиниус" того самого Сумарокова, заложившего принципиальные основы русской классицистической поэтики и бывшего, кстати сказать, с 1756-го по 1761 год директором первого профессионального русского театра в Петербурге. Этический критерий спектакля "Недоросль" режиссёр Юхананов определял строжайше по Фонвизину, точно и не было двух столетий, нас разделяющих: триединство и тождество добра, образования и общественного прогресса вовеки в идеале остаётся справедливым, но, как ни парадоксально, сие тождество снова и снова требуется доказывать с высот сценой именуемой театральной кафедры и вычислять, повторяя за усердным Митрофанушкой: "Нуль да нуль будет нуль, один да один..."
Режиссёр Борис Юхананов дополнил место сценического действия добродушными анималистическими персонажами, явившимися, может быть, из хороводов ряженых, из сказок, пословиц и грядущих басен Крылова, ещё вероятнее, что те огромные, на задних ногах разгуливавшие тут и там розовые свиньи (тучные "братцы-поросята") явились к Простакову вослед за своим хозяином - братцем госпожи Простаковой - Скотининым как живое доказательство правдивости слов его: "Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целою головою". Свиньи-"актёрки" в "Недоросли" Юхананова были по объёму и отчасти по значению равновеликими тем живым чучелам - крысам, которые в знаменитом фильме-притче французского режиссёра-постмодерниста Алена Рене "Мой американский дядюшка" (1980 г.) стали моделью исследования (по теории А.Лабори) биооснов человеческого поведения.
Впрочем, и в комедии Фонвизина дядюшка - не просто степень родства, но чин и звание: дядюшка Митрофана - презренный Скотинин, а дядюшка Софьи - почтенный Стародум.
Положительных героев - глашатаев непреложных истин - в "Недоросли", считая по системе Цыфиркина, почитай, четверо.
Первым номером среди них шёл почтенный Стародум в темпераментном и мудром исполнении Артёма Иноземцева - живое воплощение слов этого героя: "Имей сердце, имей душу - и будешь человек во всякое время!" Александр Агарков в роли второго положительного персонажа Правдина был также похвал достоин за отважное преодоление всех препон, в том числе - резонёрских текстуальных длиннот двухсотлетней давности. Милая Софья (актриса Габия Яраминайте) и жених её Милон (актёр Дмитрий Денисюк) обходились приятным благонравием молодости, напоминая и о том, что если у Фонвизина житьё-бытьё Простаковых и Скотининых - среда нравственно губительная, то Гоголь в среде им современной, дворянской, мелкопоместной, нежно взрастил своих "Старосветских помещиков" с истинным их идеалом супружеского счастья, и вполне могли эти незабвенные и трогательные гоголевские помещики Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной сочетаться браком в тот же день, когда венчались фонвизинские Софья и Милон. Если же старосветские помещики были счастливы и верны друг другу от венца до гробовой доски, то брак Софьи и Милона оказался не столь удачным, о чём узнаём из "периодического сочинения" Д.И.Фонвизина "Друг честных людей, или Стародум" (1788 г.), состоящего из писем, писанных героями комедии "Недоросль", так, уже в эпистолярном жанре, продолжающими своё литературное существование. И вот Софья пишет из Петербурга своему дядюшке Стародуму: "Я теперь нахожусь в самом лютом положении; (...) сколько по склонности, столько и следуя вашей воле, вышла я за Милона; несколько времени вела я с ним жизнь преблагополучную, но мы приехали в Петербург, где узнала я прямое несчастье: Милон мне неверен! (...) Сердце моё терзается день и ночь". И Стародум - ответной почтой - даёт любимой племяннице "спасительный совет": "Знай, что честность есть душа супружеского согласия. (...) Скрывай страдания сердца твоего, терпи великодушно. (...) Не питай злобы в сердце своём, будь всегда готова к примирению". (Как не вспомнить, что и у Толстого Анна Каренина именно с таких - "стародумовских" - позиций сумела помирить своего брата Стиву Облонского с его женой Долли, собиравшейся, ввиду его неверности, уйти от мужа.)
Впрочем, герои комедии "Недоросль" продолжали свою жизнь не только в текстах их создателя Фонвизина, но и под пером другого автора - Петра Алексеевича Плавильщикова (1760 -1812), видного теоретика русского театра. В сатирической зарисовке Плавильщикова "Сговор Кутейкина" действующими лицами являются персонажи Фонвизина, однако, утверждая в своих теоретических трудах эстетику классицизма и присущую ей роль разума, Плавильщиков отдавал дань таким качествам сентиментализма, как "критерий вкуса", "живость и простота речи", "камерное благородство чувств, а также "жизненность и обыкновенность характеров" в пьесе, "трогающей сердце" (даже если это пьеса на историческую тему). Сын купца, выпускник Московского университета, Плавильщиков, будучи девятнадцатилетним молодым человеком, вступил актёром в петербургскую придворную труппу (а значит, вполне мог играть и в премьерном представлении "Недоросля"!), впоследствии же он некоторое время "исполнял должность" инспектора этой труппы, до конца дней своих оставаясь корифеем русской театральной журналистики, искренним другом всех радевших о русском театре.
Эстетические и этические заветы и Фонвизина, и Плавильщикова великолепно выразил в спектакле Юхананова ставший украшением вильнюсского "Недоросля" коллизийный сценический дуэт Елены Майвиной, незабываемо и неожиданно игравшей Госпожу Простакову, и Сергея Зиновьева, виртуозно исполнившего роль Митрофанушки.
Материнской заботой ежесекундно ведомая, переполненным любовью сердцем наделённая госпожа Простакова в интерпретации Елены Майвиной и крупный, наивный, но не без хитринки в глазах, чувствительный, ясноликий, словно бы сразу на все четыре стороны света непрестанно свой взор устремляющий Митрофанушка Сергея Зиновьева покоряли и даже чаровали родством и единством мечтательных душ своих, и диалог их - словесный иль на немой речи державшийся - в точнейшем соответствии с высказыванием Владимира Набокова (по поводу диалога текстуального, литературного), "был комически стилизован" и "артистически сочетался с описательной прозой", являясь "в данном произведении (то есть в спектакле Б.Юхананова "Недоросль", к которому относим цитату) инструментом организации стиля и структуры".
Артисты Майвина и Зиновьев своим слаженным дуэтом, говоря словами Державина, "дерзнули в забавном русском слоге (...) возгласить" не только и не столько о волновавшей Фонвизина и других просветителей необходимости серьёзного, систематического образования для молодых представителей русского дворянства, сколько о вечных добродетельных смыслах внутрисемейных отношений, отождествив разум с чувством любви родительской, любви к домашнему очагу и опоэтизированному этим чувством семейному укладу. Актёрский дуэт Майвиной и Зиновьева воскрешал в памяти ряд коллизий прозы Гоголя (например, мотив нежной любви матери к взрослым сыновьям Остапу и Андрию в повести "Тарас Бульба"), Тургенева (трогательную коллизию задушевных отношений нигилиста Базарова с его старенькими родителями, во многом напоминающими гоголевских "Старосветских помещиков"), но очевиднее всего сей дуэт восходил к пушкинским "Повестям И.П.Белкина" (таким, как "Метель", "Станционный смотритель" и даже "Барышня-крестьянка", ибо в них весьма и весьма силён мотив любви родительской), а особенно к "Истории села Горюхина" и одноимённому моноспектаклю, который по этому произведению Пушкина несколько лет тому назад изумительно играл на сцене вильнюсского Малого театра петербургский российский актёр с философским образованием Сергей Барковский. Этот исполнитель умело, одухотворённо, с просветительским пафосом расцветил пушкинский текст "Истории села Горюхина" визуальными, акустическими и чисто литературными находками: так, в сцене встречи героя его дворовыми людьми Барковский (один!) воспроизвёл менее, чем за минуту, десятки разных голосов и возгласов, а повествуя со сцены о петербургской своей встрече с сочинителем Б., за которым пушкинский повествователь от первого лица "пустился по Невскому проспекту - только что не бегом" (и не догнал), Сергей Барковский называл этого сочинителя по фамилии - Булгарин.
Герой спектакля Барковского во многом напоминал несколько ранее сыгранного Сергеем Зиновьевым Митрофанушку, который в конце концов всё-таки, пусть с более чем очевидной болью в сердце, едет со Стародумом в столицу - "делать фортуну и карьеру", как говорил дядюшка Адуев в "Обыкновенной истории" И.А.Гончарова племяннику-провинциалу, также приехавшему в Петербург.
В вильнюсском спектакле Бориса Юхананова звучала изысканная, варьировавшая и объединявшая классицистические, классические и модернистские реалии представления оригинальная авторская музыка композитора и выдающегося мастера джазовых импровизаций Владимира Тарасова. Эта музыка дополняла талантливо и оригинально - из литературных ассоциаций, интонационно-мимических нюансов - сотканную канву дуэта Майвиной и Зиновьева, канву, на которую легко и непринуждённо ложился сиюминутный комедийный затейливый узор фонвизинского текста, подтверждающий сакраментальную фразу его автора: "Умри, Денис, лучше не напишешь". И не сыграешь! - были вправе добавить благодарные зрители.
ЕЛЕНА МАЙВИНА - АКТРИСА, УМЕВШАЯ ОСПОРИТЬ КАНОН
Актриса Русского драматического театра Литвы Елена Григорьевна Майвина (1924 - 2008), ушедшая от нас в мир иной к глубокому прискорбию многочисленных почитателей её таланта, трепетно служила сцене более шести десятилетий. Благодарная зрительская память хранит этапные образы, созданные Еленой Майвиной в течение её артистической жизни: это юная излучающая ренессансный свет - воплотившая триединство красоты, добра и любви - шекспировская Дездемона в "Отелло" - первая большая роль выпускницы ГИТИСа на вильнюсской сцене; Варвара Павловна в осуществлённой легендарным режиссёром Леонидом Лурье инсценировке романа Ивана Сергеевича Тургенева "Дворянское гнездо; Джемма в "Оводе" Войнич, Клея в поставленном Г.Барышниковым "Эзопе" ("Лиса и виноград") Фигейредо, Аркадина в чеховской "Чайке"...
"Мой педагог в ГИТИСе Николай Сергеевич Плотников говорил нам, студентам: "Актёр должен трудно жить", - рассказывала в одной из наших бесед Елена Майвина, - и я стараюсь следовать этому постулату. Думаю, что актёру надо культивировать в себе умение удивляться, беспрерывно наблюдать за людьми, за их взаимоотношениями в любых обстоятельствах, в том числе, и в экстремальных. Всё это в актёрском деле пригодится! (...) Если в тексте роли есть хоть несколько моментов, которые трогают за сердце, - значит, всё в порядке. (...) Идеальное же состояние у меня наступает тогда, когда, перефразируя чеховского Треплева, роль свободно льётся из души".
Детальная психологическая разработка образа в творчестве актрисы неизменно сочеталась с редкой стилистической изысканностью. Её трогательно нежные, всегда наделённые авторски-личностной искренностью, а посему безоговорочно убедительные героини в большинстве своём существовали под знаком вечной Женственности.
В русскую и зарубежную классику Елена Майвина умело привносила и мотивы "серебряного века", и модернистские изыскания, и явные приметы (и примеры) отважного аналитического переосмысления канонических представлений. Так, вспоминая свою Дездемону, Елена Григорьевна задавалась вопросом: "Если принять на веру пушкинское утверждение, что Отелло доверчив, то почему же он не верит ей, своей жене, которая до последней минуты в нём души не чает?" А говоря о Варваре Павловне Лаврецкой, актриса, вопреки мнению Тургенева, защищала эту женщину, говоря, что "она - человек духовно одарённый: поёт, музицирует, начитанна, обладает изысканным вкусом, блистала в заграничных салонах, притом заботится о дочери, хочет обеспечить её будущее..." (Тут уместно напомнить, что в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского "Дворянское гнездо" (1969 г.) Варвару Лаврецкую - тоже весьма сочувственно - играла одна из самых блистательных и утончённых актрис польского кино Беата Тышкевич.)
Героинь же современной зарубежной комедии в спектаклях 90-х годов по пьесам итальянца Альдо Николаи "Осенняя история" (режиссёр А.Хелде) и американца Джона Патрика "Дорогая Памелла" (в постановке Юрия Попова) Майвина щедро наделила и интеллигентностью, и русской душевностью, и интернациональной способностью заботиться о близких и даже чужих людях, терпеть, прощать и, несмотря ни на что, оставаться убеждённой оптимисткой.
Роль-монолог Елены Майвиной, исполненный по рассказу Ивана Бунина "Холодная осень" в спектакле Юрия Щуцкого "Тёмные аллеи", звучал как трагическое откровение женского сердца, в котором навеки жива память о первой - истинно святой и незабвенной - любви дворянской девушки к погибшему на Первой мировой войне жениху.
В спектакле же режиссёра Ювеналия Калантарова "Несчастливцев и другие", поставленном в 1994 году по комедии Александра Николаевича Островского "Лес", Елена Майвина новаторски и непредсказуемо сыграла Гурмыжскую.
Эта дама, изображённая в пьесе как малоприятная, лицемерная особа, в облике Майвиной предстала чрезвычайно (подчас - до неузнаваемости!) облагороженной, обаятельной и милой провинциальной дворянской дамой - нарядной, тщательно причёсанной, с изящными движениями, лучезарным лицом и мелодичной речью. И когда богатый сосед Гурмыжской Милонов воспевал в её лице "всё высокое и всё прекрасное" , это - к изумлению привыкших к традиционной трактовке "Леса" зрителей - оказывалось совершеннейшей и очевидной правдой, как и дальнейшие слова Милонова: "Зачем определять отношения? Пусть сердце их определяет". И если отношения Гурмыжской с Несчастливцевым и Аксюшей в спектакле Калантарова определял всё-таки текст (и сюжет) "Леса", то отношения Гурмыжской-Майвиной с Улитой, которую тоже молодо, новаторски кокетливо играла Лилия Мрачко, были скорее сестринские, а чувства немолодой Раисы Павловны к своему избраннику - недоучившемуся гимназисту Алексису Буланову вполне отображала её фраза "Я (...) очень довольна, что нашла в людях благодарность". Так обличительно сатирический - у Островского - образ Гурмыжской Майвина актёрски смело соотнесла с эстетикой сентиментализма, воспевавшего поэзию чувства и природы, первозданность внутренних переживаний "естественного" человека, и выиграла "партию" с победным счётом.
Накануне своего семидесятилетия в 1994 году актриса дала мне небольшое интервью.
ЕЛЕНА МАЙВИНА: "МНЕ ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ИГРАТЬ..."
Татьяна Балтушникене: Уважаемая Елена Григорьевна, расскажите, пожалуйста, как началась Ваша профессиональная артистическая жизнь.
Елена Майвина: По окончании ГИТИСа у нас не было распределения. После государственных экзаменов режиссёр и педагог Наталия Мац пригласила меня, москвичку, в Алма-атинский ТЮЗ, где я проработала один неполный сезон, а потом тогдашний руководитель этого ТЮЗа Елена Маркова переехала в Вильнюс и взяла меня с собой. Я стала играть в Русском драматическом театре Литвы. (Елена Гавриловна Маркова поставила у нас, на русской сцене в Вильнюсе, "Ревизор" Гоголя и "Отелло" Шекспира, пьесу И.Попова "Семья", "Высокую волну" Галины Николаевой и А.Радзинского...) Я начала с массовок, но уже вскоре стала работать над ролью Дездемоны, а Отелло в той шекспировской постановке играл известный артист Лев Иванов, впоследствии перешедший во МХАТ. С ним мы играли и в тургеневском "Дворянском гнезде", у режиссёра Лурье: Лев Иванов исполнял роль Лаврецкого, а я - его жены Варвары Павловны.
Т.Б. Кто Вы больше в душе - москвичка или виленчанка?
Е.М.: Когда бываю в Москве или вижу её по телевизору, особенно если в кадр попадают Остоженка, Малая Дмитровка, переулки моего детства, у меня - комок в горле! И, конечно же, давно люблю Вильнюс, одинаково прекрасный во все времена года. Ведь здесь, считайте, пятьдесят лет моей жизни прошло! Здесь столько памятных сердцу ролей сыграно!
Т.Б.: С чего Вы, мастерица психологической школы, а нередко - и сценического психологического парадокса, - начинаете работу над образом?
Е.М.: С первого прочтения пьесы. Кстати, сыграть драматическую роль, на мой взгляд, гораздо труднее, нежели комедийную - с великолепным комедийным текстом, который сам по себе является огромным подспорьем в работе. Если же пьеса слабая, а мне и в таковых довелось играть, то первооснову роли приходится долго искать и выискивать. Несколько дней, иногда недели две-три провожу в состоянии "предварительного поиска": стараюсь не бормотать, когда еду в троллейбусе, долго топчусь с тяжёлой сумкой у подъезда своего дома, особенно зимой, в сумерках, когда не так бросаюсь в глаза соседям и прохожим, и всё пробую, пробую, ищу интонацию, на слух проверяя текст роли...
Т.Б.: Имеют ли для Вас значение национальная принадлежность героини и эпоха, в которой она, эта героиня, живёт?
Е.М.: Всего важнее для меня характер героини, а её национальность и временная принадлежность к характеру естественным образом прилагаются.
Т.Б.: Вы умеете спорить с авторами пьес. Например, играя Гурмыжскую в спектакле режиссёра Ювеналия Калантарова "Несчастливцев и другие" по комедии А.Н.Островского "Лес", Вы "шли от противного" традиционной трактовке и добились поразительного результата. Ваша Гурмыжская предстаёт одухотворённой и благородной женщиной.
Е.М.: Мне хотелось по-новому взглянуть на эту женщину и, вопреки общепринятым представлениям, показать, что чувство Гурмыжской к Алексису - не прихоть, не интрижка, а страсть - "солнечный удар", подобный увековеченному в одноимённом рассказе Ивана Алексеевича Бунина. Думаю, такое вѝдение образа Гурмыжской не противоречит общим смыслам драматургии Островского, чей талант слишком широк и глубок для однозначных, устоявшихся трактовок.
Т.Б.: За что Вы любите свою Памеллу из пьесы Джона Патрика?
Е.М.: За то, что в ней есть идеальное начало, хотя эту американскую вещь - "Дорогую Памеллу" не я для своего бенефиса выбирала, а режиссёр Юрий Попов. Прочитав предложенный мне текст "Дорогой Памеллы", я подумала: "Какое счастье! Лучше быть не может!" Ведь тут присутствует то, что нам нынче особенно нужно - вера в идеал.
Т.Б.: Чего Вы ждёте от публики?
Е.М.: Встречи с нею. Хочется, конечно, не разочаровывать зрителей. Как я этого добиваюсь и чего мне это стòит - не имеет значения.
Т.Б.: Есть ли в Вашей жизни событие или явление, существующее вне времени и пространства?
Е.М.: Может быть, то, что я - актриса.
Т.Б.: Что движет русской интеллигентной женщиной, избирающей актёрскую долю?
Е.М.: Никаких высоких мыслей о каком-то особенном моём предназначении у меня в юности, поверьте, не было. Мне просто очень хотелось играть.
Т.Б.: Спасибо за интервью.
* * *
Подлинным артистическим открытием Елены Майвиной стал созданный ею образ госпожи Простаковой в комедии Дениса Ивановича Фонвизина "Недоросль", поставленной на рубеже "века нынешнего и века минувшего" (в 1999 году) приглашённым режиссёром Борисом Юханановым. Здесь - опять-таки вопреки всем канонам - нежная и трогательная родительница Митрофанушки была абсолютным воплощением святой и священной материнской любви в сценических обстоятельствах датируемой 1782 годом гениальной сатирико-просветительской комедии.
Привнеся в "Недоросль" (и сделав его тут главным!) мотив безоглядной любви госпожи Простаковой к сыну, Майвина декларативно заявляла в сценическом пространстве эту тему, варьируемую как в документальной, так и в художественной литературе, а также в кино, например, в фильме Киры Муратовой "Долгие проводы", где её выражением является роль, сыгранная Зинаидой Шарко. Биографическая же проза свидетельствует, что для таких великих писателей, как Гоголь, Мопассан, Бунин, Блок, именно мать на всю жизнь оставалась самым близким и любимым человеком. Вспоминались и литературные примеры: Жанна из романа Ги де Мопассана "Жизнь", мать Долохова - его, бретёра, "обожаемый ангел" из "Войны и мира" Льва Николаевича Толстого, который, кстати, с любовью отозвался и о нежной, отзывчивой, наделённой материнским сердцем героине рассказа Чехова "Душечка", задуманной автором вовсе не как пример для подражания. И вот в спектакле Юхананова Елена Майвина воссоздавала портрет и характер, точно искусная кружевница - тонкий узор: в развевающемся от её стремительных метаний капоте, в то и дело съезжающем на затылок чепце с лентами, с очками на носу, её Простакова не сводила взгляда с Митрофанушки (которого умно, литературно, с отсылкой даже к Обломову играл Сергей Зиновьев), губами беззвучно повторяя каждое его слово, задыхаясь от волнения, то сияя улыбкой наивной гордости, то заливаясь слезами - в предчувствии неминуемой разлуки. Этой бенефисной ролью незабываемая актриса отмечала своё 75-летие, и Простакова, сыгранная Майвиной, вновь и вновь олицетворяла ту чувствительность, которую Фонвизин в "Опыте российского сословника" определил как "качество, коим тело или душа стремительно проницаются".
Друг Пушкина поэт и критик Пётр Андреевич Вяземский (1792 -1878), тот самый, что в седьмой главе "Евгения Онегина" "подсел" к Татьяне Лариной, "встретя" её "у скучной тётки", "и душу ей занять успел", восхищался творчеством Фонвизина, которому присущи "живое чувство истины, мастерство писать портреты с натуры, умение схватить русские нравы и оставаться при них". Вяземский особо отметил в "Недоросли" образ няни Еремеевны с её "истинно русской" холопской оригинальностью (эту роль в спектакле Б.Юхананова играла Вера Земская), а говоря о госпоже Простаковой усмотрел "в её характере заложенные черты трагические". Это при том, что Вяземский последовательно отстаивал обличительные традиции русской сатиры и выделял в русской комедиографии четыре имени - Капнист, Фонвизин, Грибоедов и Гоголь.
Черты трагические в сатирическом образе госпожи Простаковой Елена Майвина воспроизводила, сообщая - по ходу действия - своей роли неожиданные, вполне драматические акценты: её героиню - нежную, заботливую мать - волновали не столько богатые "деревеньки" (приданое) Софьи, сколько вопрос о том, будет ли её обожаемый Митрофанушка счастлив в браке. Уповая на высокие качества сына, Простакова устами Елены Майвиной говорила так вдохновенно и уверенно, точно присягу приносила: "Куда не бессчастна будет та, которую приведёт бог быть его женою". С вдохновенной гордостью сыгранная Майвиной родительница Недоросля сообщала факты семейной хроники: "Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить"; "Нас ничему не учили"; "Материно моё сердце!"; "Вить вот уж ему, батюшка, шестнадцать лет исполнится около зимнего Николы"; "Мы весь родительский долг исполнили"... Фразу "Нас ничему не учили" Майвина от имени Простаковой произносила с глубокой неподдельной горечью, авторски подчёркивая, что на этом, в сущности и с позиций человека нового времени, трагическом обстоятельстве в немалой мере зиждется биография, а значит, и характер её героини.
Нежно и недоумённо, с прямо-таки романсной интонацией риторического вопроса звучали из уст Простаковой-Майвиной хрестоматийные рассуждения о том, надо ли дворянину учиться "еографии": "Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская", - говорила она, весьма изящно разводя руками, поигрывая перстами и устремив очи горѐ.
В тексте "Недоросля" ментор Правдин характеризует семью Простаковых безжалостно: "Нашёл помещика дурака бессчётного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома" - и слова эти звучат в спектакле (как в поговорке "из песни слова не выкинешь"), однако образ, созданный Еленой Майвиной, глаголет не о злодеяниях какой-то фурии и не об адском нраве, а о женщине, для которой и супружеский долг, и материнская любовь - есть главное, и более того - святое дело её жизни. Муж и сын, которых она обожает, слушаются её с одного слова не оттого, что её боятся, а оттого, что любят её всей душой и платят ей взаимностью за неусыпную заботу.
"Одна моя забота, одна моя отрада - Митрофанушка. Авось - либо господь милостив, и счастье на роду ему написано", - патетически возглашала главная героиня "Недоросля", всякий раз со слезами счастья на глазах обращаясь к сыну не иначе как "Митрофанушка, друг мой!" или "Друг мой сердечный!", "Сынок, одно моё утешение!" и ни на миг не забывая, что "за молитвы родителей наших (...) даровал нам господь Митрофанушку". Такою же самоотверженной любовью к сыну (Борису) наполнено существование и образованной благородной дворянской женщины, обедневшей вдовы княгини Анны Михайловны Друбецкой - героини романа Л.Н.Толстого "Война и мир", к которой великий автор относится сочувственно, а на страницах той же эпопеи, посвящённых беседам Пьера Безухова с Платоном Каратаевым, находим вещь удивительную - многострадальный Каратаев от души сокрушается о том, что у богача, графа Пьера нет матери: "Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной матушки!" Именно таков был лейтмотив образа госпожи Простаковой, новаторски и вдохновенно созданного Еленой Майвиной.
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ: "КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТ ТЕМ И ХОРОШ, ЧТО РАСПОЛАГАЕТ К РАЗНОЧТЕНИЯМ..."
Артист Русского драматического театра Литвы Сергей Зиновьев (род. в 1955 году) работает на этой сцене с 1980 года, после окончания актёрского факультета Литовской Государственной Консерватории (ныне - Академия музыки и театра), где его преподавателями были режиссёр Виталий Ланской и известный литовский театральный педагог Альге Савицкайте. За три с половиной десятилетия Сергей Зиновьев создал целую плеяду впечатляющих - преимущественно классических - сценических образов в спектаклях известных режиссёров. Творческому подчерку Сергея Зиновьева присущи живописный, широким и крупным мазком исполненный рисунок роли, вдохновенный и подробный психологизм, безупречное чувство стиля, широта палитры как драматических, так и комедийных красок и оттенков. Известный мастер вильнюсской русской сцены любезно согласился ответить на предложенные вопросы.
Татьяна Балтушникене: Уважаемый господин Зиновьев, Вам довелось воплотить многих героев, в том числе - троих знаменитых персонажей русской сатиры: Подколёсина в поставленной А.Черпиным "Женитьбе" Гоголя, поэта Ивана Бездомного в инсценировке романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и необыкновенного Митрофанушку в комедии Фонвизина "Недоросль". Какова мера Вашей личностной им сопричастности? Как удалось Вам, точно отображая хронотопические обстоятельства, сделать эти, на века от нас отстоящие, образы актуальными и по сей день? (Вспомним, что Ваш Подколёсин ванну принимает, а Ваш Митрофанушка от мамы - условно, но всё-таки - на лифте (!) уезжает.)
Сергей Зиновьев: Авторы - сатирики, а значит, и Гоголь, и Фонвизин для своих творений брали персонажей из окружающей их и для них современной жизни. Выбирали и - у всех на виду, "на миру" высмеивали этих героев, ставших действующими лицами бессмертных комедий. Мне же представляется важным то обстоятельство, что у всех и каждого из комедийных, от века высмеиваемых героев было детство и отрочество, было какое-то семейное окружение и воспитание, то есть набор качеств, предопределивших индивидуальное формирование представляемой личности. Вопросы же, поднимаемые великими комедиографами - вопросы вечные, хотя каждая эпоха ставит их по-новому, и мы все вместе вновь и вновь ищем на них ответы.
Т.Б.: Что было определяющим иль предопределяющим для Вас при работе над ролью Митрофана Простакова, которого Фонвизин осмеивает в "Недоросли"? Насколько нынче, по-вашему, актуальны идеи этой первой русской сатирической комедии (за которой, как известно, последовали "Горе от ума" Грибоедова и "Ревизор" Гоголя)?
С.З.: Текст комедии "Недоросль" как раз вполне подробно воссоздаёт предпосылки судьбы главного героя: мать Митрофанушки в своей безумной любви к сыну хотела оградить его, своё "оранжерейное дитя", от окружающего жестокого мира, уберечь от всяческих невзгод, грозивших иль могущих грозить юноше, покинувшему родительский кров. Ведь Митрофану ещё нет шестнадцати лет, он - недоросль. Во времена Фонвизина совершеннолетним мужчина считался в 16 лет, а в Киевской Руси - уже в пятнадцать лет лицо мужского пола переставало быть дитятей, недорослем, и обретало статус взрослого человека. По-моему, изображённый у Фонвизина "почти шестнадцатилетний" Митрофан отнюдь не глуп, напротив - он любознателен и наделён пытливым умом, а если чего-то и не знает, то лишь потому, что его именно этому не научили, именно этого ему не преподали. У него всё впереди, и, возможно, он без особого труда постигнет даже университетские науки.
Думается, к Недорослю Фонвизин относится снисходительнее, нежели к взрослым Простаковым, Скотинину и горе-учителям. Более того, на мой взгляд, Фонвизин, сочувствуя Митрофанушке, явно болеет за него душой, желая, чтоб его современники, молодые дворяне, становились бы просвещёнными людьми и употребили бы свои способности и знания на благо государства. Во времена Фонвизина антиподом Просвещению была провинциальная дворянская рутина - захолустный уклад бытия и мышления. В последующие эпохи образованию противостояла тотальная неграмотность народа, а сейчас, в наши дни, во времена всеобщего обязательного образования, в провинции доводится с горечью наблюдать проявления гнетущей бездуховности. И ныне есть, к сожалению, люди, которые так же, как Простаковы и Скотинины в комедии Фонвизина, не видят смысла в образовании. Есть тому и литературные примеры, скажем, Мисаил Полознев из повести Чехова "Моя жизнь" - дворянин по происхождению, он, не окончив гимназии и считая рутинной среду провинциальной интеллигенции, демонстративно "уходит в народ", желая жить физическим трудом, однако он, разумеется, трагический герой, которого великолепно сыграл в кино Станислав Любшин, а сестру Мисаила - Клеопатру в том сорокалетней давности, но нисколько не устаревшем телефильме памятно играла Алиса Фрейндлих.
(...) Полюбить Митрофанушку для меня не составляло труда: он мне духовно близок, хотя ему - неполные шестнадцать лет, а мне в ту пору было 45! И это не просто дань актёрской вежливости - мы часто говорим о тёплых чувствах к герою, чью роль нам предложил режиссёр, но в душе-то наперёд знаем: нравится тебе персонаж или не нравится, а играть придётся. Я привык полагаться прежде всего на интуицию, которая, вкупе с опытом, рано иль поздно выведет на верную дорогу.
Т.Б.: Вас она вывела на путь первопроходца - к неповторимому новаторскому во всех смыслах сценическому дуэту с изумительной актрисой Еленой Майвиной - исполнительницей роли госпожи Простаковой. Как возник замысел и шло осуществление этого центрального дуэта в спектакле режиссёра Бориса Юхананова?
С.З.: Классический текст тем и хорош, что располагает к разночтениям. В текст "Недоросля" мы с Еленой Григорьевной Майвиной и углубились. Елена Григорьевна, чрезвычайно тонко мыслящая и очень опытная актриса, предложила мне идею нашего дуэта: будем играть, априорно исключив две вещи - две общепринятые характеристики - глупость Митрофанушки и жестокость госпожи Простаковой. На том порешили, и ведущей темой дуэта нашего стала тема любви. Любви матери к сыну и взаимно - сына к матери. Так мы "Недоросль" репетировали, так и сыграли. Режиссёру Юхананову мы сперва ничего не говорили, ибо не знали, получится ли убедительным желаемый результат. Текст Фонвизина мы детально разложили на смысловые элементы и затем переложили, перекомпоновали, ориентируясь на иные, нами избранные, от приоритетов сатиры к сфере живого чувства ведущие эмоциональные константы. Свою линию мы спокойно провели до финала, то есть - до премьеры. Наш метод (осторожных репетиционных проб) и наша трактовка нашли понимание у режиссёра. Борис Юхананов на репетициях не делал нам с Майвиной никаких замечаний. Коррекция исходных чувств главных двоих персонажей комедии изменила, разумеется, и их характеры, но назидательная идея Фонвизина, оставаясь в силе как таковая, трансформировалась в иной постулат: в спектакле Юхананова не было классицистической альтернативы, задающей выбор между образованием и любовью к матери, к родительскому дому. Мой Митрофанушка может и университет окончить, и мать свою любить по-прежнему.
Т.Б.: Вы с Еленой Григорьевной Майвиной - с согласия режиссёра - совершили художническое открытие, поскольку ведущую дуэтную коллизию "Недоросля", наверное, никто нигде и никогда подобным образом не играл.
С.З.: Когда играешь с хорошим партнёром, ассоциативное поле расширяется едва ли не до бесконечности, и твой взгляд на героя может меняться, то вплотную подходя к авторскому замыслу, то заметно от него отклоняясь. Возьмём гоголевского Подколёсина из "Женитьбы": он, сибарит до мозга костей, как ни странно, занимает высокую должность, получая большое жалование, к тому же он, по понятиям людей середины XIX века, уже не молод и просто обязан жениться, дабы успеть завести детей и воспитать их, вывести в люди... Подколёсин всё это знает, и тем не менее, несмотря на все уговоры Кочкарёва, которого так темпераментно играет коллега Александр Агарков, он, Подколёсин, боится расстаться со своей свободой, ибо, обзаведясь женой и семьёй, уже не сможет вот так часами нежиться в ванне, жить с привычным холостяцким комфортом. Во времена Гоголя такое мировоззрение и поведение неженатого мужчины так или иначе подвергалось общественному порицанию, а в наши дни оно имеет право на существование - недаром же дизайнеры создают очень комфортабельные интерьеры, комплекты мебели "для одного" - всё, что рассчитано на желающих жить в стиле "Single life" - спокойно, по своей воле и в своё удовольствие жить жизнью одинокого человека.
Т.Б.: Варьируя теоретически и практически тематику классического образа, Вы ориентируетесь и на понятие "отечественности", которое ввёл в теорию русского театра Пётр Плавильщиков, считавший эту категорию (предтечу народности) "первым предметом в театральном сочинении". Современник Фонвизина, Плавильщиков под термином "отечественность" понимал преобразование сценических жанров и в первую очередь - русской сатиры в направлении более широкого охвата жизни, более сочувственного отношения к персонажам, представляющим все сословия, и возведения положительного героя сатирического произведения из ранга ментора и нравоучителя в ранг активно действующего в комедии лица...
С.З.: Каковым и является уже Чацкий в "Горе от ума" Грибоедова. Что же, режиссёр "Недоросля" Юхананов на репетициях и во время бесед с актёрами много говорил об отечественной культуре, о понятии отечества в национальном искусстве, что, конечно, оказало своё влияние на общую концепцию спектакля и "рикошетом" коснулось и нашей с Еленой Григорьевной Майвиной "обновлённой коллизии".
Т.Б.: Если перенестись из XVIII литературного века в XX век и перечитать трактат Владимира Набокова "Николай Гоголь", найдём такую фразу: "Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом".
С.З.: Подобное утверждение - тоже в духе русской сатиры.
Т.Б.: Вы играли отчасти похожего на Митрофанушку великовозрастного, в детском костюмчике и с детской наивностью в глазах и манерах Клеанта из комедии Мольера "Тартюф", также принадлежащей классицистическому пространству. Сравнимы ли эти миры - русский фонвизинский и французский мольеровский, который на сцене Русского драматического театра Литвы неповторимо был воссоздан интерпретатором "Тартюфа" выдающимся российским режиссёром Владимиром Мирзоевым?
С.З.: Это, конечно, два разных классицистических мира и два совершенно разных режиссёра. Из них двоих мне ближе мир фонвизинский, создавая который, режиссёр Юхананов работал особым образом: он всё время задавал актёрам вопросы, и отвечая на них, ты как исполнитель находился в постоянном поиске - ищешь и ищешь, бывало, то какую-то чёрточку, то штрих харáктерный, то интонацию, то пробную щепотку грима на лице... Ищите и обрящете. В "Тартюфе" же все образы были сразу заданы режиссёром Мирзоевым - в жёстком рисунке, что, однако, отнюдь не исключало "внутриóбразных" актёрских импровизаций.
Т.Б.: Замечательно, что Вам повезло с современными интерпретаторами стародавних классических пьес. Вот русский критик и друг декабристов Николай Иванович Гнедич (1784 - 1833), которого называли "рыцарем театра", утверждал, что актёрский талант может "зачахнуть преждевременно, истомлённый ролями старинных трагедий".
С.З.: В те времена, когда Гнедич это говорил, да и позднее трагики в актёрском мире составляли своего рода касту (как в Индии, скажем, брахманы). Каждый себя уважающий трагик знал наизусть - в комплекте - все ведущие трагические роли классического репертуара, как правило, шекспировские (Гамлет, Отелло, Король Лир...), и мог не волноваться: не примут в одну труппу - примут в другую! В наши дни актёр играет всё. Необходимо (и хочется!) играть разные роли, накапливать мастерство, работая с режиссёрами, представляющими различные художественные направления. С годами почти неизбежно придёшь к тому, что лучше всего тебе удаётся.
Т.Б.: Вспомним, что Вы превосходно играли две высокотрагические роли в модернистских, явственно обновивших эстетику Русского драматического театра Литвы спектаклях выдающегося режиссёра Романа Виктюка! Одна из этих ролей - Иван Бездомный в сценической версии романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Иван Бездомный - поэт, ещё один Мастер. Созданный Вами его сценический образ был одинаково близок как "пролеткультовцам", так и футуристам. Вы как-нибудь представляли себе его стихи?
С.З.: Да, конечно. Скорее всего, Иван Бездомный писал "пролеткультовские" стихи и обладал свойственным пролетарским поэтам пролеткультовским максимализмом. Думаю, Иван Бездомный - псевдоним, взятый им, бывшим беспризорником, по примеру Максима Горького, Демьяна Бедного, Скитальца... Бездомный был одержим идеей мирового коммунизма, и внешность ему я постарался придать плакатную - олицетворяющую мечту, полёт и чувство хозяина нового мира. К тому же у него в душе родилась страсть к стихосложению: он открыл для себя радость рифмовать такие, например, слова, как "революция - конституция"... Но вот Иван Бездомный встретился с Воландом, и у него, пролетарского поэта, чуть было не "поехала крыша", однако от полного безумия его спасает встреча с Мастером, дающая возможность осознать тот факт, что где-то существуют другая жизнь и другое мировоззрение. Мастер спасает Ивана Бездомного от пролеткультовского ада, от жестокой государственной машины, которая ломала судьбы и жизни, и мой булгаковский герой начинает осознавать, что идея чистого высокого искусства - в лице Мастера - обречена на гибель в том обществе и в том государстве.
Т.Б.: Маяковский и в то время писал гениальные стихи...
С.З.: Да, он был настолько талантлив, что не мог не писать талантливо. Ранняя лирика Маяковского говорит об израненной личными горестями душе поэта, но впоследствии и он понял, что такой власти нельзя служить, что диктатура и творчество - несовместимы.
Т.Б.: Другая Ваша роль у Виктюка - Николай в "Уроках музыки" Людмилы Петрушевской. Там Вам пришлось играть не дуэтом (как в "Недоросли"), но - с квартетом, который составили выдающиеся актёры Елена Майвина, Артём Иноземцев, Валентина Мотовилова и Владимир Ефремов. Как создавался этот, превосходный в своей безжалостности, спектакль Виктюка? Как бы Вы определили жанр вильнюсских, данных в 1988 году "Уроков музыки"?
С.З.: Жанр спектакля весьма близок трагипамфлету, но когда Роман Виктюк впервые читал нам эту пьесу Петрушевской, вся труппа хохотала. Казалось, что всё там изображённое очень смешно. Однако, после того, как распределили роли и мы начали репетировать, нам стало страшно: такие бездны мрака и ужаса разверзались... Работая с Виктюком в "Уроках музыки", я как будто во второй раз Консерваторию окончил! Виктюк как режиссёр сообщает актёру необычайно сильный заряд творческой энергии и задаёт совершенно иную (ранее мне не известную) сферу и условия сценического бытия. Репетируя с Виктюком и играя в поставленных им спектаклях, я понял, что такое творчество. Ему присущ совсем иной - неповторимый и уникальный - взгляд на театральное искусство, он везде ищет поэзию и создаёт для актёров какую-то особую гиперболическую атмосферу. Все мы на репетициях и на спектаклях сидели за кулисами тихо-тихо, все друг другу помогали и желали удачи, то есть - чуда на сцене. Тут уж мне (да и никому другому) не грозило "зачахнуть, истомлённому ролями в старинных трагедиях".
Т.Б.: "Уроки музыки" в режиссуре Виктюка, действительно, были пронизаны глубоким и в то же время привычным, повседневным трагизмом, а сыгранный Вами молодой главный герой по имени Николай, вернувшийся домой после службы в рядах Советской Армии и собирающийся (кстати, по любви) жениться, неожиданно стал - в своей жутковатой обыденности - типическим и оттого пугающим олицетворением "тротуарного нуля". Вам как исполнителю этой - центральной - роли замечательно удалось, воплощая полностью соответствующего социальной норме человека, опровергать эту самую норму - с позиций и художественных, и гражданских. Как компоновался этот Ваш сценический образ?
С.З.: В эпоху гласности, в конце 80-х годов прошлого века Роман Виктюк собрал воедино и словно бы через мощную лупу сценически выявил и вынес на всеобщее обозрение все социальные беды и пороки недалёкого прошлого, тогдашнего настоящего и, к сожалению, будущего. Он показал в "Уроках музыки" гнетущий, страшный советский "микрорайонный" кошмар и как порождение его - семейку Николая: отца, мать и тётю с дядей. Мы дополнили пьесу Петрушевской рядом биографических подробностей, нами самими придуманных, и по детали, по отзвуку события, по словесному жесту компоновали и уточняли характеры и коллизии "Уроков музыки". Так, мы решили, что отец Николая, которого играл Владимир Ефремов, отставной офицер внутренних войск и психология его - психология охранника, подобного тем, которых описал в "Зоне" Сергей Довлатов - один из моих любимейших писателей, о чьей безвременной кончине скорблю до сих пор.
Мать Николая, трагигротескно сыгранная в "Уроках музыки" Валентиной Мотовиловой, по случаю семейного торжества надевает орден, но при всей своей советской идейности, духовной скудости она так же сильно, беззаветно любит сына, как и госпожа Простакова Митрофанушку. И мой Николай любит и мать свою, и отца, который, по-видимому, был очень строг с сыном, когда тот был маленьким, любит и своих мещанских, втихомолку выпивающих тётю с дядей, которые по-своему желают племяннику добра, словом, любит свою семью, ибо другой-то семьи у него нет, да и сам Николай - плоть от плоти и кровь от крови этого трагигротескного "застойного" советского семейства.
Т.Б.: А помните ли Вы своего Старосту из притчи живого классика и модерниста-первопроходца литовской литературы Казиса Саи "Год Быка" и работу с литовским режиссёром Аудрюсом Накасом в антифашистском политическом фарсе "Доминго де Рамос", где Вы - на литовском языке - играли не кого-нибудь, а Геринга?
С.З.: В "Годе Быка" мне, тогда молодому актёру, режиссёр Иван Петрович Петров, царство ему небесное! поручил вторую в моей жизни большую роль (первая была в спектакле "Вдовий пароход", тоже И.П.Петровым поставленном). Спектакль по пьесе Казиса Саи вышел красочным и музыкальным. Казис Сая - удивительный автор: литовская "отечественность" находит в его творчестве широчайшее отображение! А Староста в "Годе Быка" - персонаж фольклорный: будучи сам "из народа", он, хотя и облечён властью, всё-таки стремится как-нибудь защитить своих родных односельчан от произвола вышестоящих - столичных - начальников.
Было интересно работать и с Аудрюсом Накасом, который приходил на репетиции "Недоросля" и после одной из них подошёл ко мне, представился (мы раньше не были знакомы) и предложил мне роль, на которую я сразу согласился и в меру своих сил изобразил Геринга. В этой пьесе, по воле автора Геркуса Кунчюса, собрана вся немецко-фашистская верхушка, и режиссёр предоставил нам, исполнителям, для фантазий всё поле политической сатиры. С литовскими актёрами работалось замечательно.
Т.Б.: В своё время Вы сказали, что, играя Митрофанушку, видите в нём предтечу Обломова и отчасти отображали их визуальное, духовное и даже смысловое сходство...
С.З.: Да, я когда-то так говорил и так думал, однако со временем пришёл к убеждению, что эти двое - в принципе разные люди: у Митрофанушки всё впереди, и он может многое совершить в жизни, тогда как Обломов, которого очень люблю, обречён пребывать в неподвижности на Выборгской стороне, и вряд ли найдётся в русской литературе герой, сравнимый с ним по степени трагизма.
Т.Б.: Спасибо за беседу.
2013.03.05
ДАЛЯ СТОРИК И КОСТАС СМОРИГИНАС В СПЕКТАКЛЕ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА МОЛОДЁЖИ "ДЯДЯ ВАНЯ" ПО ПЬЕСЕ А.П.ЧЕХОВА (РЕЖИССЁР ЭЙМУНТАС НЕКРОШЮС, 1986 г.)
"СЧАСТЬЕ, ПРИЗРАК ЛИ СЧАСТЬЯ?"[4]
Легендарный спектакль Эймунтаса Некрошюса, - ныне режиссёра с мировым именем, прославившего и прославляющего литовское театральное искусство на всех широтах земного шара, - "Дядя Ваня", созданный почти четыре десятилетия тому назад по одноимённой драме Антона Павловича Чехова, имеющей чуточку странный для современного слуха подзаголовок как жанровое определение "сцены из деревенской жизни", стал в ту пору, когда Литва находилась на историческом пути - к обретению Независимости, подлинно национальным художественным манифестом, провозгласившим со сцены литовского государственного театра Молодёжи высокую и всеобъемлющую идею нравственной свободы.
Ставший знаком и символом духовного обновления спектакль "Дядя Ваня" (1986 г.) вместе с ранее (в 1978 г.) поставленной в Каунасском драматическом театре пьесой "Иванов" и созданным в 1995-м под эгидой Литовского международного театрального фестиваля LIFE также во всех отношениях замечательным спектаклем "Три сестры" составляют редкой красоты и силы чеховскую сценическую (во многом пророческую) триаду Эймунтаса Некрошюса, столь же блестяще интерпретировавшего произведения Пушкина ("Маленькие трагедии"), Гоголя ("Нос"), Шекспира ("Гамлет", "Отелло", "Макбет", "Ромео и Джульетта"), Гёте ("Фауст"), Данте ("Божественная комедия"), Достоевского ("Идиот"), Донелайтиса ("Времена года"), Саулюса Шальтяниса ("Баллада Дуокишкис"), Чингиза Айтматова ("И дольше века длится день...").
Наряду с изысканной сценографией Надежды Гультяевой и проникновенной музыкой известного литовского композитора Фаустаса Латенаса, ценнейшими художественными компонентами спектакля Некрошюса "Дядя Ваня" стали замечательные актёрские работы - сценические образы чеховских героев, мастерски созданные по сложной, подчас причудливой литературно-режиссёрской партитуре и исполненные с особенным - со-творческим - вдохновением.
И поныне как живые стоят перед глазами монументально гротескный Серебряков в исполнении маэстро Владаса Багдонаса, отчаянно и непоправимо несчастный дядя Ваня, на высокой трагической ноте сыгранный Видасом Пяткявичюсом, возвышенно-горестная Соня в облике Дали Оверайте, смешной и нелепый Вафля Юозаса Поцюса и - конечно же - являющийся предметом данный главы - бесподобный актёрский дуэт Дали Сторик (Елена Андреевна) и Костаса Сморигинаса (доктор Астров). Тема и эмоциональное содержание этого сценического диалога - взаимное и по природе своей романсное глубокое и прекрасное чувство, ведущее героев по широкой, проторенной литературными образцами и традициями, дороге от головокружительного увлечения к страстной любви, имеющей пусть не все, но многие и многие основания стать смыслом целой оставшейся жизни, наполнив её, эту жизнь, тем неповторимым взаимоощущением бытия, которое воспел поэт Надсон: "Счастье, призрак ли счастья?.. Не всё ли равно?"
Подобным чувством пронизана и чеховская "Дама с собачкой", и коллизия Маша - Вершинин в "Трёх сёстрах", и даже отношения Нины и Тригорина во 2-м и 3-м действиях "Чайки"...
В "Дяде Ване" же центральная любовная коллизия (Елена Андреевна - Астров) имеет на редкость любопытную литературную предысторию.
Общеизвестно, что предтечей пьесы "Дядя Ваня" (1897 г.) была (не включённая автором в собрание сочинений, написанная восемью годами раньше )комедия Чехова "Леший", задававшая в первом приближении сходный с "Дядей Ваней" состав действующих лиц и весьма аналогичные тематические константы, но - и это очень существенно! - кардинально иные характеры, а также, как следствие, иные схемы личностных взаимных отношений между персонажами. Так, в "Лешем" прообраз Астрова - Хрущов, определяемый как "помещик, кончивший курс на медицинском факультете", не питал никаких чувств к Елене Андреевне, а любил Соню, представленную в "Лешем" девушкой эмансипированной, читающей философские труды, нарядной и ухоженной барышней, которая "под занавес" соглашается таки составить счастье обожающего её Хрущова, попутно горячо и постоянно, как впоследствии и Астров, возглашающего о необходимости беречь леса.
Дядя Ваня, бывший в "Лешем" дядей Жоржем (Егором Петровичем) там застреливается (как Иванов, как Треплев), но не в финале, а в 3-м действии, посему в 4-м действии становится известно, что "после покойного Егора Петровича остался дневник", а из него следует, что "роман Жоржа с Еленой Андреевной, о котором трезвонил весь уезд, оказывается подлой, грязной сплетней". В "Лешем" Елена Андреевна на короткое время действительно уходила от мужа, но не к кому-нибудь определённому, а ради возможности временно пожить жизнью свободной женщины, после чего возвращалась под семейный кров и трогательно просила прощения у мужа - профессора Серебрякова, и он, надо сказать, - единственный, кто из "Лешего" пришёл в пьесу "Дядя Ваня", почти не изменившись.
Некоторые сцены комедии "Леший" включил в свой сравнительно недавний, поставленный на сцене Национального театра литовской драмы, спектакль "Дядя Ваня" французский режиссёр и исследователь чеховского творчества Эрик Лакаскаде, однако сей эксперимент, сам по себе небезынтересный, особого влияния на концепцию постановки не оказал - играется всё-таки "Дядя Ваня" с Арунасом Сакалаускасом в роли Войницкого.
Любопытно, что в окончательный классический текст пьесы "Дядя Ваня" перешли фразы из "Лешего", явно противоречащие новому раскладу взаимоотношений между персонажами, а особенно новому концептуальному, то есть - любовному содержанию коллизийного дуэта Елены Андреевны и Астрова. Так, хрестоматийная фраза "В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли..." впервые была сказана в "Лешем" - Хрущовым в беседе с Соней, в которую он влюблён, и тут же говорит ей: "С каким удовольствием, Софья Александровна, я увёз бы вас отсюда сию минуту". В пьесе же "Дядя Ваня" Астров, уже, как всем ясно, до безумия влюблённый в Елену Андреевну, по воле автора слово в слово ту самую сентенцию повторяет нелюбимой Соне, притом, что всего поразительнее - в упрёк лично Елене Андреевне, прямо о ней уточняя: "Она прекрасна, спора нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своей красотой - и больше ничего. У неё нет никаких обязанностей (а обязанности жены известного учёного и хозяйки дома? - Т.Б.), на неё работают другие... (...) А праздная жизнь не может быть чистою". Подобное обличительное отношение Астрова к уже завладевшей его воображением женщине логически вряд ли совместимо с тем признанием, которое он делал в той же сцене, той же несчастной Соне, спустя всего пять реплик: " Что меня ещё захватывает, так это красота. (...) Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день... Но ведь это не любовь, не привязанность..." А что же, позвольте спросить?
Актёры от века в этом сценическом дуэте играют именно любовь, пусть краткую, внезапно нахлынувшую, пусть незавершённую, но взаимную и страстную любовь, причиною которой, конечно, были и обаятельная "русалочья" красота Елены Андреевны, и личностная значимость преданного идее своей жизни Астрова, и богатство внутренней жизни, и общая для них обоих духовная отчуждённость в отношениях со всеми остальными окружающими людьми.
Когда переделанную из комедии "Леший" пьесу "Дядя Ваня", уже с успехом игравшуюся в провинции, Чехов представил в Петербургское отделение Театрально-литературного комитета, где она была рассмотрена "в заседании 8 апреля 1899 года комиссией в составе профессора Н.И.Стороженко, профессора А.Н.Веселовского и И.И.Иванова, признавших пьесу "достойной постановки" лишь при условии изменений и вторичного представления в комитет. В протоколе заседания в качестве "недостатков" пьесы указывалось, что до третьего акта дядя Ваня и Астров сливаются в один тип неудачника".* Недаром игравший в спектакле Некрошюса роль Астрова Костас Сморигинас вначале (и весьма долго) репетировал роль дяди Вани, а потом - как-то сразу вошёл в образ Астрова. Интересно, что ещё один "недостаток", по мнению той комиссии Театрально-литературного комитета в составе трёх учёных мужей (можно сказать, современников и коллег профессора Серебрякова), заключался в том, что "характер Елены Андреевны нуждается в бóльшем выяснении", а такой как есть, её образ "не вызовет интереса в зрителях".*
И тем не менее эта загадочная женщина, столько лет в свете рампы говорящая о себе "я нудная, эпизодическое лицо", является главной героиней волнующего сценического романа. Такой была и Елена Андреевна, сыгранная Далей Сторик в артистическом дуэте с Костасом Сморигинасом - блестящая красавица, воссозданная в броских пластических ритмах, родственных поэзии "серебряного века". Наедине с собою Елена Андреевна вслух раздумывает, имея в виду Астрова, о том, как было бы хорошо "поддаться обаянию такого человека, забыться... (...) Да, мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нём... (...) Улететь бы вольною птицей от всех вас, (...) забыть, что все вы существуете на свете..."
Чехов - вопреки указаниям комиссии Театрально-литературного комитета - ничего в пьесе не переделал и не изменил. Авторский текст "Дяди Вани" в его первоначальном виде был передан в Московский Художественный театр, где 26 октября 1899 года состоялась премьера пьесы, нашедшей живой горячий отклик у образованной публики и у критиков. Большинство отзывов в печати были хвалебными. Особо значимо тут мнение обозревателя "Московских ведомостей" известного критика Сергея Васильевича Флёрова-Васильева (1841 - 1901), который в рецензии на премьерный спектакль "Дяди Ваня" в МХТ отметил "новаторскую способность драматурга совместно с театром создавать особую лирическую атмосферу спектакля", которую и назвал "театром настроения".* Это определение С.В.Флёрова-Васильева - филолога по образованию - стало театроведческим термином и до сих пор служит одним из важных критериев оценки сценических воплощений чеховских драматургических произведений, а также экранных версий прозы А.П.Чехова.
Известнейший русский театровед Константин Рудницкий, восхищённый вильнюсским сценическим вариантом "Дяди Вани", писал: "Да, пьеса изымается не только из времени, которое её породило, но даже из характерной для Чехова атмосферы, из потока сменяющихся настроений. "Настроение" для Некрошюса - слишком неопределённое понятие. Тонус его спектакля повышенный, тут ни на шутку разгулялись и раскалились страсти".*
Ещё во времена первой постановки "Дяди Вани" в МХТ Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, игравшая Елену Андреевну, писала из Москвы Чехову, который тогда жил в Ялте, о том, что Астров - в интерпретации Константина Сергеевича Станиславского - в последней сцене "обращается к Елене, как самый горячий влюблённый. (...) По-моему, - полагала Книппер-Чехова, - если бы это было так, - Елена пошла бы за ним". Чехов ответил, что такое предположение неверно, и Астров "в последнем акте уже знает, что ничего не выйдет, что Елена исчезает для него навсегда (...) и целует её просто так, от нечего делать".
Однако, невзирая на почти категорический запрет гениального драматурга, дуэт Дали Сторик и Костаса Сморигинаса в спектакле Некрошюса был исполнен и горечи, и пылкой страсти и являлся очевидной и центральной по сути любовной коллизией, которая как "драма в драме" весьма целостна: ведь начатая в третьем действии "Дяди Вани" первая - она же кульминационная - сцена Елены Андреевны с Астровым (рассматривание его картограмм, беседа о Соне и её безответных чувствах и переход к объяснению и трепетному полупризнанию во взаимной любви), прерываемая долгой картиной с выстрелом дяди Вани в Серебрякова, картиной, в которой у Астрова и Елены Андреевны нет активного действия (они её "перебывают на сцене", словно бы ожидая возобновления неоконченного разговора, завершившегося поцелуем явно не "от нечего делать", а отнимать у Войницкого револьвер мог бы и кто-нибудь другой, помимо супруги профессора...), приводит в четвёртом действии к "развязке" собственной драматургией обладающего любовного дуэта, что означено и логически, и текстуально. Разговор, полный надежд на взаимное счастье, и поцелуй, прерванный в третьем действии появлением дяди Вани с букетом осенних роз, оканчивающиеся репликой Елены Андреевны "Я должна уехать отсюда сегодня же!", и заключительный прощальный диалог Астрова и Елены Андреевны в четвёртом действии, начинаемый её обращёнными к Астрову словами "Я уезжаю. Прощайте!", составляют две примерно равные сценические части единого целого - коллизии "Астров - Елена Андреевна", запечатлённой в несравненной красоты и силы чувства актёрском дуэте, сыгранном Костасом Сморигинасом и Далей Сторик словно бы на тему и как отзвук "крылатой фразы", принадлежащей перу известного литовского поэта Доналдаса Кайокаса: "Скорость света всегда должна быть больше, чем скорость тьмы".
Скорость света превышала скорость тьмы в этом мастерски Некрошюсом отрежиссированном и с фантастическим блеском актёрами сыгранном сценическом диалоге, даже независимо от того, расстаются ли эти, представленные на литовской сцене Молодёжного театра, Астров с Еленой Андреевной навсегда, как следует из текста, или им суждено ещё встретиться в далёком, а может, и в недалёком будущем. Астров, каким сыграл его Костас Сморигинас, мнится мне, вполне мог бы из своей лесной глуши поехать за нею в Харьков, как поехал, например, из Москвы в Петербург за Анной Карениной Вронский в романе Льва Толстого.
А может статься, призрак счастья растает, как дым, о чём поведано в рассказе А.И.Куприна "Страшная минута", где тоже есть и немолодой некрасивый профессор, и его молодая красавица-жена, и явившийся на её пути обольститель - известный певец, и на сердце останется лишь томный романсный напев из репертуара известного дореволюционного, гастролировавшего и в Вильно певца Юрия Морфесси (1882 -1957) на музыку Бориса Прозоровского и стихи Льва Пеньковского "Мы только знакомы - как странно, как странно"... Этот романс исполнял и прекрасный, широко известный певец Валерий Агафонов (1941 - 1984), работавший и в Русском драматическом театре Литвы.
* * *
Уместно - синтагматически - вспомнить, что в 80-х годах XX века пьесу Чехова "Дядя Ваня" в Ленинграде, в БДТ ставил выдающийся режиссёр Георгий Товстоногов, и играли в этом спектакле 1982 года Олег Басилашвили (Войницкий), Лариса Малеванная (Елена Андреевна), Кирилл Лавров (Астров), а во МХАТе, в 1984 году, под режиссёрским управлением Олега Ефремова в "Дяде Ване" слаженным сценическим дуэтом выступали столь именитые артисты, как Анастасия Вертинская (Елена Андреевна) и Олег Борисов (Астров). В парадигму же российских, равновеликих по артистической высотности спектаклю Некрошюса "Дядя Ваня" и столь же незабываемых сценических произведений той поры входили, показанные и в Литве времён "перестройки", спектакль Анатолия Васильева "Серсо" по пьесе Виктора Славкина и великолепное, трагически горькое "Чинзано" Людмилы Петрушевской, которое поставил Роман Козак в театре-студии Людмилы Рошкован "Человек".
ДАЛЯ СТОРИК И ЕЁ ТРАГИЧЕСКИЕ ГЕРОИНИ В СТИЛЕ "МОДЕРН"
Известная литовская актриса Даля Сторик в 1975 году окончила актёрский факультет Литовской Государственной Консерватории (ныне - Академия музыки и театра), где её педагогом и руководителем курса, состоявшем сплошь из будущих звёзд литовской сцены и экрана, была замечательный режиссёр Даля Тамулявичюте (1940 - 2006), в то время бывшая главным режиссёром литовского Государственного театра Молодёжи, куда и пришёл в полном составе курс её воспитанников-консерваторцев, сразу и в полный голос заявивший о себе в подлунном театральном мире. Наряду с Далей Сторик в труппу Молодёжного театра были зачислены её сокурсники Костас Сморигинас, Альгирдас Латенас, Даля Оверайте, Видас Пяткявичюс, Кристина Казлаускайте, Ремигиюс Вилкайтис, Арунас Сторпирштис, Виолета Подольскайте и Ирена Кряузайте, - все трагики и эксцентрики, но каждый по-своему незаменим и индивидуален. Известнейший литовский театровед Ирена Алексайте недаром назвала этих, тогда совсем молодых актёров "великолепной десяткой", и сей коллективный титул оказался поистине пророческим: он остаётся в силе и поныне. Даля Сторик в продолжение всей своей творческой жизни создавала и создаёт впечатляющие, преимущественно трагические сценические образы, которым присуща палитра глубоких и сильных чувств, отображающих радости и превратности извечного и триумфального женского бытия. В искусстве Дали Сторик, проникнутом постмодернистским трагическим мироощущением, глубокий внутренний психологизм дополняется изысканной точной пластикой, мимическими нюансами, и оттого-то сложным узором вытканный рисунок каждой из её ролей сочетает классические тона с насыщенными красками стиля "модерн", которым Даля Сторик владеет в совершенстве. В её игре никогда, даже в самых первых сценических опытах, не наблюдалось примет ученичества, казалось, что Даля Сторик, щедро наделённая внешней красотой и гармоническим изяществом движений, всегда, даже в свои двадцать с небольшим лет, уже была серьёзной, законченной актрисой.
Свидетельством тому могут служить ведущие роли, сыгранные Далей Сторик в 70-х годах минувшего века на сцене в ту пору невероятно популярного и любимого зрителями всех возрастов Государственного театра Молодёжи - в спектаклях режиссёра Д.Тамулявичюте: трагиромантическая Моника в первом литовском мюзикле "Загонщики огня" (1976 г.), написанном специально для Молодёжного театра композитором Гедрюсом Купрявичюсом и писателями Саулюсом Шальтянисом и Леонидасом Яцинявичюсом (1944 - 1995); драматической судьбы Рута из современной (тогда) бескомпромиссной пьесы Саулюса Шальтяниса "Ясон" (1978 г.); трогательно нежная Люка в драме С.Шальтяниса "Брысь, костлявая, всегда брысь!", рассказывающей о молодых людях, чья юность пришлась на трудные послевоенные годы... А ещё - белой птицею летавшая по сцене, излучавшая высокий лиризм Нина Заречная в чеховской "Чайке"!
Запомнилась и бесшабашная, но в то же время осознающая своё женское могущество "королева уличной компании" - девочка с королевской фамилией Лаймуте Радвилайте из пьесы С.Шальтяниса и Григория Кановичюса "Кошка за дверью", выразительно и новаторски поставленная на сцене Молодёжного театра в 1980 году тогда двадцативосьмилетним, но уже достаточно известным режиссёром Эймунтасом Некрошюсом. Живым ощущением пульса времени, страстностью мятежных драматических пассажей, взрывной ритмикой игра звезды литовского театра 70-х годов Дали Сторик была во многом сродни вокальному искусству звезды польской эстрады 60-х годов Эвы Демарчик. Памятны и такие сценические работы актрисы, как искрящаяся счастьем обретённой свободы эмансипированная Фру Линде в драме Генрика Ибсена "Кукольный дом" в постановке Йонаса Вайткуса; одна из красавиц, претендующих на внимание Майора Ковалёва в интерпретированном Э.Некрошюсом гоголевском ""Носе"; оссиановская, полуфантастическая шекспировская Леди Макбет, сыгранная опять-таки у Некрошюса - в классическом "Макбете" и - импозантная, но глубоко несчастная Стиви из последнего спектакля Дали Тамулявичюте "Коза, или кто эта Сильвия?" по драме знаменитого американского абсурдиста Эдварда Олби (1928 - 2005).
Особенным же шрифтом в послужной список Дали Сторик вписан созданный ею пленительный образ Елены Андреевны в неповторимо поставленной Эймунтасом Некрощюсом пьесе А.П.Чехова "Дядя Ваня". Актриса любезно согласилась поделиться воспоминаниями и размышлениями о своих героинях.
* * *
ДАЛЯ СТОРИК: "В ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ "ЛЮБОВЬ" И "СЧАСТЬЕ" СТОИТ ЗНАК РАВЕНСТВА..."
Татьяна Балтушникене: Уважаемая госпожа Сторик, скажите, пожалуйста, существовала ли живая преемственность и какая-либо артистическая общность между Вашими литовскими драматическими героинями 70-х годов XX века и на столетие раньше увидевшей свет рампы чеховской Еленой Андреевной?
Даля Сторик: Конечно, этих героинь роднит и молодость, и стремление к счастью, и сходство судеб: они любят не тех, кто любит их. Очень отрадно было на репетициях "Дяди Вани" почувствовать и, благодаря режиссёру Некрошюсу, осознать, что ореол классики условен, что и на небе, в заоблачных высях художественных, и на земле существуют и подчас бушуют одни и те же чувства, одни и те же страсти. Героиня романа Саулюса Шальтяниса "Ясон" - Рута, молодая замужняя женщина из провинциального литовского городка, прожила бы, не встреть она Ясона, такую же длинную бесцветную и безрадостную жизнь, как и чеховская Елена Андреевна, если б на её жизненном пути не возник доктор Астров. Тут есть различия в деталях, в приметах времени, менталитета и быта, выражаемые рисунком ролей, однако общая платформа чувств - сходна и тождественна.
Мне хотелось, играя этих героинь, выразить и запечатлеть в сценических мгновениях вечное стремление женщины к счастью. В женской судьбе между понятиями "любовь" и "счастье" стоит знак равенства, то есть под счастьем неизменно подразумевается взаимная любовь - союз двух любящих сердец. В спектакле "Дядя Ваня" дуэт Елены Андреевны и Астрова заключал в себе явные "приметы любви": прикосновение руки - как электрическая искра(!), Тургеневым воспетые "взгляды, так нежно и жадно ловимые", исполненные на глазах зарождающегося и набирающего силу властного чувства, особенный - поэтически страстный интонационный строй диалогов... Всё это свидетельствовало о глубине взаимных чувств.
Т.Б.: Костас Сморигинас - в вашем впечатляющем чеховском дуэте - показывал Астрова человеком во всех отношениях достойным любви - привлекательным внешне, увлечённым своим делом - экологией и медициной, честным, способным на глубокие чувства... Отчего же, по-Вашему, Чехов столь решительно предсказывает этим героям разлуку?
Д.С.: Их отношения развиваются по Чеховым заданному сюжету. Вначале эмоциональная доминанта этого дуэта (как и многих других) скорее отрадна для души обоих: человек привлекает твой взгляд, и тебе хочется, чтобы этот человек как можно дольше был здесь, с тобою, хочется всё больше и больше знать о нём, обо всей его жизни, хочется ему рассказывать о себе... Однако, по мысли Чехова, у героев этого романа нет и быть не могло совместного будущего, и с автором не поспоришь...
Т.Б.: Похожим образом складываются отношения Базарова и Одинцовой в романе И.С.Тургенева "Отцы и дети", даже несмотря на то, что оба они - свободны и могут располагать своими чувствами по собственному усмотрению. Интересна экспозиция сценического образа Елены Андреевны: она - в Вашем облике - является на сцену в полумужском костюме для верховой езды (в белых бриджах и сапогах), то есть она - наездница, причём очаровательная наездница, воскрешающая в памяти и картину классика русской живописи Карла Брюллова "Всадница" (1832 г.), и также - со смыслом - ездивших верхом героинь классической литературы: флоберовскую госпожу Бовари, ибсеновскую Гедду Габлер, толстовскую Анну Каренину... Что означала эта упомянутая экспозиция для вас, создателей спектакля "Дядя Ваня"?
Д.С.: Режиссёр Некрошюс дал мне задание - войти, то есть впервые появиться на сцене, возникнуть так, чтоб сразу приковать к себе взгляды всех окружающих. Елена Андреевна, столичная дама, посему в провинции, куда она попала, разительно ото всех отличается: она - иная, из иного мира, о чём должны наглядно свидетельствовать и походка её, и манера двигаться, и каждый в отдельности жест... Езда верхом, между прочим, даёт мужчинам прекрасный повод ухаживать за дамой-наездницей: подводить ей лошадь, подсаживать в седло, сопровождать, помогать спешиться, - всё это знаки внимания, говорящие о рыцарском поклонении этой женщине, о восхищении ею.
Умею ли я сама ездить верхом? Представьте, да. В детстве и отрочестве я во весь опор скакала верхом на лошади, когда проводила в деревне у бабушки летние каникулы. В XIX веке, а значит, и во времена Чехова женщина-наездница самим фактом своего существования так же решительно олицетворяла эмансипацию, как ещё лет сорок-пятьдесят тому назад эмансипированной считалась женщина, управляющая автомобилем. И по этому поводу могу вспомнить, что в 1981 году не кто иной, как я была первой женщиной во всём Молодёжном театре, которая получила водительские права.
Т.Б.: Не только стремительной гибкостью и пластической выразительностью каждой позы, по спокойной величественности и печальной грации напоминающей аллегорическую женскую фигуру "Дремлющий луг" литовского скульптора Эрика Даугулиса (1951 - 2012), но и живописной портретностью в духе "Дамы в чёрной шляпе" (1908 г.) Кес ван Донгена - отличалась Ваша Елена Андреевна, чьи прекрасные черты лица были затуманены непреходящим, снедающим её чувством тайной грусти (эту грусть выявляла стародавняя линза (для телевизора с маленьким экраном), сквозь которую она рассматривала крошечные, размером с почтовую марку, картограммы Астрова. Впрочем, у Чехова тоскуют все, но о чём именно печалится Елена Андреевна в спектакле Некрошюса?
Д.С.: Человек подчас сам не знает, отчего он грустен - это видно другим, но артист должен знать, почему герою грустно. Может быть, у Елены Андреевны есть какая-то своя, никому не ведомая тайна, может быть, её гложет тоска по чему-то несбыточному, тоска внешне незаметная, но при взгляде пристальном - глаза в глаза - становящаяся явной. Возможно, это тоска по материнству - ведь она ещё молода и могла бы иметь детей...
Т.Б.: Как ни грустно её самой, в жизнь окружающих она вносит радость: все её обожают, носят на руках - и в прямом, и в переносном смысле. Вам замечательно удалось воплотить в портретной характеристике этой чеховской героини явление, описанное французским романистом XIX века Альфредом де Виньи: "Поклонники пытались перехватить на лету её взгляд, который скользил по ним, как лёгкое пламя, зажигающее светильники один за другим" ("Сен-Мар"). Как бы Вы определили общую эмоциональную константу образа?
Д.С.: Это - в сумме своей - неясность душевного состояния, предчувствие грозы, которая надвигается (и разражается!), внутреннее беспокойство и нетерпеливое ожидание какой-то перемены. Притом ведь каждый из окружающих стремится не только понять эту женщину, но и зачем-то сместить её с той самостоятельной орбиты бытия, на которой она ведёт, или, по крайней мере, вела привычное существование.
Т.Б.: Что же это за орбита? Мы вообще знаем о Елене Андреевне совсем немного: она петербурженка, получившая образование в консерватории (!), и, по её собственному признанию, выходившая замуж за немолодого профессора-вдовца по любви. Каковы склад и ход её чувств после семи лет брака с Серебряковым?
Д.С.: Елена Андреевна в юности и ранней молодости жила так, как большинство ей подобных девушек из хороших дворянских фамилий: получила отличное воспитание, хорошее образование, сделала хорошую партию, то есть вышла вовремя замуж за уважаемого и обеспеченного человека, имеющего авторитет, занимающего высокое общественное положение, в данном случае - на столичной университетской кафедре, где много лет преподавал Серебряков. Это был привычный, правильный уклад женской жизни в образованном обществе чеховских времён. Мне думается, что Елена Андреевна выходила замуж за всеми уважаемого профессора Александра Владимировича Серебрякова действительно по любви, во всяком случае тогда, лет семь-восемь тому назад, ей так казалось. По-видимому, встреча с Астровым внесла в её душу новое чувство, оказывающееся разрушительным по отношению к её семейному прошлому. Некрошюс, интерпретируя эту тему, режиссёрски открыл для нас, исполнителей, прямо-таки безбрежный эмоциональный и импровизационный простор. Так, финальная имитация Астровым самоубийства требовала от меня как актрисы сильной ответной реакции - то был буквально потрясающий всё существо Елены Андреевны взрыв испуга и отчаяния. Однако, этот трагический фрагмент дуэта ничего не менял в ходе сюжета: Елена Андреевна и Астров всё-таки прощаются, да, со слезами на глазах и с болью в сердце, но - по мысли и Чехова, и режиссёра, - прощаются навсегда.
Т.Б.: Была ли это любовь?
Д.С.: Да, конечно.
Т.Б.: У Чехова в "Рассказе неизвестного человека", который замечательно перенёс на экран выдающийся литовский режиссёр Витаутас Жалакявичюс, сказано: "Свободно следовать влечениям своего сердца - это не всегда даёт хорошим людям счастье". Вы согласны с этой сентенцией?
Д.С.: Не всегда, но иногда - даёт. Поступок, сделанный по велению сердца, вполне может дать счастье хорошим людям.
Т.Б.: Могут ли встретиться ваши Астров с Еленой Андреевной в дальнейшем? (Ведь они оба молоды, и впереди у них - ещё целая жизнь.)
Д.С.: По логике вещей да и по логике чувств такая встреча в будущем не исключается, но если их ещё раз сведёт судьба, - то будет другая бинарная коллизия, и сюжет её будет новым сюжетом.
Т.Б.: Что было лейтмотивом центральной бинарной коллизии Макбет - леди Макбет, которую Вы и Костас Сморигинас памятно воплощали в поистине шекспировском по силе страстей и мыслей "Макбете", поставленном Некрошюсом в 1999 году?
Д.С.: Лейтмотив "Макбета" и нашего в нём дуэта можно выразить шекспировской строкой "Кто начал злом, для прочности итога / Всё снова призывает зло в подмогу".* И так во всём: начавшийся любовью призывает в подмогу любовь, начавший страхом - страх, возмездием - возмездие, а коварство силу черпает в коварстве.
Т.Б.: А как Вам вспоминается дуэт со Сморигинасом в умопомрачительной, отвергшей все возможные "табу" пьесе Эдварда Олби "Коза, или Кто эта Сильвия?" (Это было уж точно зрелище для закалённых!)
Д.С.: Олби в свойственной ему абсурдистской манере, без обиняков поведал о том, что на самом деле испытывают внешне благополучные семейные люди, достигшие критического возраста. Чувства их, когда-то бурные, резко охлаждаются, и персонажи "Козы..." от скуки придумывают какие-то немыслимые правила самоубийственной игры, на которые режиссёр Даля Тамулявичюте смотрела с присущей ей целебной дозой здравого смысла и здорового юмора.
Т.Б.: Недавно Вы и Костас Сморигинас сыграли ещё одну супружескую пару - в литовском фильме о современной жизни "Тихая ночь", поставленном режиссёром Марисом Мартинсоном. Насколько это было интересно?
Д.С.: "Тихая ночь" - ещё одна семейная история со взаимными разоблачениями. С Костасом Сморигинасом мне интересно играть везде и всегда.
Т.Б.: Да, он изумительный актёр! И Вы как актриса ему под стать!
Д.С.: Костас Сморигинас - человек с очень добрым проницательным взглядом, как партнёр он непредсказуем. Играя с ним, особенно дуэтом, надо быть "на уровне" и начеку, ибо всякий раз Сморигинас по ходу и репетиции, и очередного спектакля может по-другому, чем было разучено, задать вопрос, неожиданно изменить интонацию, как-нибудь по-иному взглянуть, сделать неожиданную паузу, и на всё это надо реагировать моментально - сиюсекундным "ответным ходом". Если допустишь слабость, он сразу заметит и - тут же протянет тебе руку помощи.
Т.Б.: Спасибо за интервью.
(2013.03.12)
* * *
В книге известного литовского театроведа Рамуне Марцинкявичюте "Засловесное пространство" (Eimuntas Nekrošius: "Erdvė už žodžių", Scena. Kultūros barai. Vilnius 2002), посвящённой творчеству Эймунтаса Некрошюса, находим важный момент режиссёрского открытия, относящегося к кульминационной сцене актёрского дуэта Дали Сторик и Костаса Сморигинаса - открытия, сделанного и воплощённого на репетициях "Дяди Вани" - той сцены, в которой Астров показывает Елене Андреевне свои картограммы, одновременно объясняясь ей в любви.
КОММЕНТАРИЙ-ПОЯСНЕНИЕ ЭЙМУНТАСА НЕКРОШЮСА
(датированное 7 марта 1986 года, "Erdvė už žodžių", стр. 314)
"В этой сцене мы должны видеть Астрова фантастически прекрасным, вдохновенно говорящим о своём труде, о лесах, о будущем человечества. Он говорит о том, что ему очень дорого. Полистайте книги той поры и вы увидите, с какой ювелирной точностью и тщательностью выписаны в них иллюстрации, сколько скрупулёзного труда туда вложено. В те времена мастера были такие, что даже блох подковывали и сложнейшие модели кораблей в стеклянной бутылке умещали. Астров ведь - сельский врач, значит, и хирург тоже, и руки его привычны к тщательному, ювелирной точности требующему делу. Поэтому и чертежи его будут очень маленькими. Совсем крохотными. Я тут принёс альбом для марок - он и будет тем местом, где Астров держит свои чертежи, переложенные листками пергамента. Астров берёт их из альбома пинцетом и осторожно кладёт на ладони Елены Андреевны: то на одну её протянутую ладонь, то на другую. На её ладонях эти крошечные картограммы незримо обратятся в живые озёра, в леса с обитающими в них пугливыми сернами. Елена Андреевна будет не в силах выпустить из рук всё это лесное богатство - и не сможет противостоять поцелуям Астрова. (...) Эта сцена должна быть исполнена красоты и одновременно раскрывать трагедию Астрова, показывая, как талантлив, как бесконечно талантлив этот в глуши живущий человек".
* * *
КОСТАС СМОРИГИНАС - МАСТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА И АРТИСТИЧЕСКОГО ДУЭТА
Известный артист литовского театра и кино Костас Сморигинас (род. в 1953 году), воспитанник и выпускник Литовской Государственной Консерватории (ныне - Академия музыки и театра), лауреат Национальной премии 2001 года, большинство своих незабываемых ролей-откровений сыграл на сцене Государственного театра Молодёжи.
С середины 70-х годов прошлого века и по сей день Костас Сморигинас радует и восхищает зрителей своим изысканным и темпераментным искусством. В водевильном представлении "Голые короли", которое ставила консерваторский педагог Костаса Сморигинаса (и девяти его сокурсников, объединённых титулом "великолепной десятки"), в то время бывшая и главным режиссёром Молодёжного театра незабвенная Даля Тамулявичюте (1940 -2006), молодой артист блистал как эксцентрик и импровизатор.
Комедийные навыки Костас Сморигинас удачно продемонстрировал в литовском телефильме, снятом в 1978 году режиссёром Альгимантасом Пуйпой по мотивам новелл О' Генри "Я не буду гангстером, дорогая", где с достойным Голливуда блеском сыграл Малыша Бреда. На стезю высокого трагизма артист ступил, создавая сложный образ Йониса - главного героя крестьянской кинодрамы "Чёртово семя" (1979 г.), снятой А.Пуйпой по прозе классика литовской литературы Пятраса Цвирки. Йонис - вначале батрак, потом - ненадолго рекрут, далее - вполне счастливый супруг своей - красивой и богатой - бывшей хозяйки, а затем, верный супружескому долгу, долгие годы носящий на руках парализованную жену и наконец её похоронивший - седой старик, богатый и счастливый тем, что вот! может на своих лошадях ехать, куда душе угодно... Все этапы долгой - от молодости до старости - нелёгкой жизни Йониса двадцатишестилетний Сморигинас отобразил с идеальной убедительностью, играя по всем, задаваемым классической литературой, канонам критического реализма.
На театральной же сцене знаковым трагическим образом стал поистине самоотверженно сыгранный Костасом Сморигинасом Заключённый в эпохальном, ставшем манифестом свободы спектакле режиссёра Эймунтаса Некрошюса "Квадрат", который значился в литовском - стационарном и гастрольном репертуаре целых 16 лет (с 1980-го по 1996 год)! Далее следовали также сыгранные Сморигинасом в постановках Некрошюса Ромео в парафразе шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" - рок-опере композитора Кястутиса Антанелиса и поэта Сигитаса Геды "Любовь и смерть в Вероне", фантасмагорически аллегорический "растабуированный" гоголевский Нос - кровный родственник Шарикова из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова; Чебутыкин в чеховских "Трёх сёстрах" и ознаменованный высшей театральной наградой года "Христофором-99" шекспировский Макбет.
Мандельштамом увиденная "Шотландии кровавая луна" в этом спектакле Эймунтаса Некрошюса освещала, благодаря мастерству исполнителя главной роли, все тайные и доселе неведомые уголки мрачной и обречённой души Макбета, чья страшная трагедия - на наших глазах в зримых образах и в произносимых Сморигинасом редкой исповедальной выразительности монологах - раскрывалась и как вселенская, и как личностно уникальная. Особенным же трагическим ракурсом, особой высотой артистического интеллекта, которого этому мастеру не занимать, безоглядной широтой мимической и интонационной палитры отличался образ доктора Астрова, виртуозно созданный Костасом Сморигинасом в датируемом 1986 годом спектакле Некрошюса по пьесе Чехова "Дядя Ваня".
Одновременно со сложными театральными образами - выразительными психологическими портретами во весь рост в спектаклях "Квадрат", "Дядя Ваня", "Макбет" - Костас Сморигинас сыграл ряд столь же незабываемых ролей в кино.
В фильме великого литовского режиссёра Витаутаса Жалакявичюса (1930 -1996) "Извините, пожалуйста" (1982 г.), воссоздающем - в типических, но запоминающихся лицах современников, людей, которых можно было встретить "на соседней улице" предперестроечной Литвы - социальную панораму повседневной жизни небольшого литовского городка, Костас Сморигинас сыграл доброго и открытого провинциального интеллигента - молодого врача, которому приходится врачевать не только телесные, но и душевные недуги своих пациентов. А ровно через десять лет - в 1992-м - Жалакявичюс пригласил Сморигинаса на главную трагическую роль (Трофима) в фильме "Зверь, выходящий из моря", снятом по остолбеняющему ужасом излагаемых событий рассказу Евгения Замятина "Наводнение". Музыку к этому фильму Жалакявичюса написал известный молдавский композитор Евгений Дога. Артист не раз играл под звуки музыки прекрасных литовских композиторов: в кино - под музыку Юозаса Ширвинскаса, в театре - в сопровождении сочинений Фаустаса Латенаса.
Костас Сморигинас создал поистине запоминающиеся образы в лентах Альгимантаса Пуйпы "Вечное сияние" (1988 г.), "Билет до Тадж-Махала" (1990 г.), "Там песчаные берега..." (1991 г.). В "Вечном сиянии" артист предстал жизнерадостным трактористом Зигмасом, который поражает своим оптимизмом всех его окружающих - деревенских людей, живущих в послевоенную пору и измученных совсем недавно перенесёнными страданиями, не знающих, что их ждёт завтра, а потому старающихся существовать как только можно незаметнее, тише, - этих-то людей лихой Зигмас наивно пытается уверить, убедить в бесконечности возможностей технического прогресса, всеочевиднейшим олицетворением которого является он сам со своим трактором "Сталинец" в придачу. На этом тракторе, как заправский гусар, увозит он (от живого мужа) страстно влюблённую в него, неотразимого и галантного с дамами Зигмаса, очаровательную Амилю (её играла актриса Виргиния Кельмялите); на этом тракторе, застрявшем на железнодорожном переезде, уходят они - счастливые и свободные - в небытие.
Искрящийся жизнелюбием, радостью мироощущения во всех внешних проявлениях (в прямых линиях и углах рисунка роли), по внутренней сути, по историко-психологическому смыслу образ Зигмаса глубоко трагичен - эту-то трагедию героя, им самим совершенно не осознаваемую (напротив - он, Зигмас, чувствует себя хозяином новой жизни!), Костас Сморигинас темпераментно запечатлел в зримом подтексте роли со всей убедительной и характерной силой своего артистизма.
В фильме Пуйпы "Билет до Тадж-Махала" (1990 г.), ретроспективном по отношению к "Вечному сиянию" и составляющем с ним дилогию, Сморигинас воссоздаёт предысторию жизни (уже знакомого зрителям по "Вечному сиянию" и уже погибшего с возлюбленной Амилей на "железном коне" "Сталинце") Зигмаса с тем же "оптимистическим трагизмом".
Любопытно, что знаменитый немецкий кинорежиссёр Вернер Херцог, посещавший Вильнюс и проводивший здесь ретроспективу своих кинокартин, назвал ленту Пуйпы "Билет до Тадж-Махала" "лучшим фильмом, который довелось видеть в жизни".
В начале 90-х годов прошлого века Костас Сморигинас также создал образ академика Вавилова в одноимённой биографической антисталинской ленте известного русского режиссёра Александра Прошкина; сыграл Йозефа К. в "Процессе" Франца Кафки, перенесённом на литовский экран Альгимантасом Пуйпой с гражданской трагической страстностью и восходящей к "театру жестокости" Арто стилистической изобретательностью, созвучными американской киноверсии "Процесса", осуществлённой великим режиссёром Орсоном Уэллсом с выдающимся американским актёром Энтони Перкинсом в роли Йозефа К. Сморигинас воплотил главного героя в "Процессе" Кафки совершенно по-кафкиански: в резких трагических темпоритмах и горестно-контрастных (надежда - безнадёжность, проблеск света - власть тьмы) микропластических портретных нюансах.
Измученный преследованиями свирепой, как цепной пёс, тоталитарной системы и ни в чём не повинный Йозеф К. в облике литовского актёра был настигнут убийцами и убит в темноте кинотеатра под звуки музыки, сопровождающие идущую на экране комедию с участием Чарли Чаплина.
Впечатляющей портретностью и подспудно трагической обречённостью, горьким изломом судьбы отличается и сыгранный Костасом Сморигинасом Милиционер в незабвенном, снятом по прозе выдающегося литовского писателя Юозаса Апутиса (1935 - 2010) фильме А.Пуйпы "Там песчаные берега..."
КОСТАС СМОРИГИНАС: "ЭТАПНАЯ РОЛЬ ТА, В КОТОРОЙ АРТИСТ ДОЛЖЕН ОТОБРАЗИТЬ СВОЁ ВРЕМЯ, СВОЮ ЭПОХУ И СВОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР..."
Татьяна Балтушникене: Уважаемый господин Сморигинас, чем, по-Вашему, определяется спектр жизненных и творческих впечатлений и переживаний артиста?
Костас Сморигинас: Литература питает интеллект и ум актёра, трансформируя в них знаки цивилизации и культуры, синтезируемые из впечатлений от прозы, поэзии, а также всех других искусств, которые ты способен объять, читая книги. Но только натура, понимаемая как индивидуальность человека, определяет структуру и свойства той эмоциональной призмы, проходя через которую, - генетически, физиологически, харáктерно - преломляются реальные жизненные и художественные впечатления.
Т.Б.: При счастливом сочетании этих процессов, вероятно, и возникают образы, принадлежащие сфере подлинного искусства. Один из них - сыгранный Вами Милиционер в фильме Альгимантаса Пуйпы "Там песчаные берега..." От этого Милиционера, искалеченного деревенского страдальца, нельзя было ни на секунду оторвать взгляда, и слёзы сострадания невольно текли из глаз. В этой роли Вы потрясали зрителей именно неординарностью психологического кода роли (исполнительный представитель власти и он же - убогий, судьбою обойдённый человек).
К.С.: А между тем этот экранный Милиционер - всё-таки типаж, в котором наличествуют и гротескные, и трагедийные обстоятельства судьбы "маленького человека" в униформе, жившего в середине 70-х годов прошлого века в типической литовской провинции, и вместе с тем - на большой планете, называемой Земля. Обычно этот Милиционер всего-навсего выполняет свой повседневный долг, охраняя граждан, но он может влезть на высокое дерево и вдруг... почувствовать себя Икаром! В ролях такого плана всё берёт начало от традиций великого Чаплина - от чаплинских героев, не умевших и не сумевших приспособиться к реальной окружающей жизни. А ещё - от парадокса, суть которого в том, что общество (человечество) в своих оценках всего происходящего вокруг, в том числе - и в искусстве, как-то привержено и склонно всё сводить к двум противоположным полюсам: на одном - геройство истинное (иль мнимое) как символ справедливости, на другом - воплощения страха и ужаса, подчас патологического. Всё искусство, по-моему, тождественно сказке и имеет ту же конечную цель - устрашить злом и увенчать, наградить добром. А между этими феноменами Добра и Зла течёт огромная, бесконечная река жизни...
Т.Б.: ...омывая те самые "песчаные берега"... Как Вы определяете для себя понятие этапной роли?
К.С.: Это, наверное, те несколько ролей (или даже одна), в которых артист должен отобразить своё время, свою эпоху и свой внутренний мир. Если этих ролей не было, то зачем выбирать актёрское дело? Каждый статист в глубине души должен мечтать о своём Гамлете. (...) Мне Бога гневить нечего, ибо посчастливилось годы напролёт работать в театре с выдающимися режиссёрами Далей Тамулявичюте, Эймунтасом Некрошюсом, в кино - с Альгимантасом Пуйпой, Витаутасом Жалакявичюсом... Люблю театр и кино, конечно, и единственное моё желание - как можно дольше оставаться чистым душою и как можно лучше делать своё дело, на которое жизнь положена. Пусть приходят в театр молодые актёры, пусть сыграют свои роли хорошо, может быть, лучше, чем я. Пусть! Буду только рад.
Т.Б.: Сравниться с Вами далеко не всякому дано. Какие из сыгранных ролей Вы однако ж причисляете к этапным?
К.С.: Заключённого в "Квадрате" Некрошюса. Играя эту роль, я шестнадцать лет подряд стремился показать, что этот человек, находящийся в "режимной" железной клетке, ещё способен к духовному и нравственному возрождению. Потом - гоголевский Нос в интерпретации Некрошюса...
Т.Б.: "То в самом деле - перл!", - говоря словами Шекспира, чей Макбет Вам также великолепно удался!
К.С.: Да, и Макбет мне душевно дорог и памятен, так же, как Астров в спектакле Некрошюса "Дядя Ваня".
Т.Б.: Доктор Михаил Львович Астров - безусловно, одна из Ваших этапных ролей. Как создавался этот образ, получившийся у Вас столь трагическим и столь цельным, несмотря на несколько противоречивые его характеристики, обнаруживаемые (при пристальном чтении) в тексте пьесы Чехова? Героини "Дяди Вани" влюблены в Астрова - умного, незаурядного, с интересным лицом человека, тогда как сам он, в свои 37 лет, называет себя конченым, лишённым будущего. Как быть с этим противоречием?
К.С.: Надо сказать, что к роли Астрова я приступил, когда репетиции Некрошюса уже шли полным ходом. Сначала я ведь репетировал - целых полгода - роль дяди Вани, случалось (опять-таки на репетициях) "замещать" первоначального исполнителя роли Серебрякова. Потом я даже изображал дивертисментного полотёра, который сперва был там один, а потом их стало трое, и они приобрели самостоятельный художественный смысл. Так что, я долго наблюдал Астрова "со стороны", глазами других персонажей пьесы, прежде чем сам начал постигать сущность этого чеховского героя. Главным содержанием образа Астрова, русского провинциального интеллигента конца позапрошлого века, я стремился сделать два качества - его безупречную глубокую порядочность и его непреходящее душевное страдание. Он безмерно страдает от того, что делается вокруг, в самодержавной отсталой России, где царит физический и моральный гнетущий провинциальный "застой", где ни за грош гибнут и леса, и люди. Думается, склад души Астрова - декабристский. Он, как и декабристы, положившие жизнь за свободу отечества и одновременно писавшие стихи, причём, хорошие, пламенные стихи, готов и рад бы посвятить свою жизнь высокой идее. Поэтому он лечит больных и не только на словах ратует за спасение лесов, но - и это главное! - реально, практически спасает леса в своём уезде. Астров ведь второй после ибсеновского доктора Штокмана, героя драмы "Враг общества" (1882 г., идущей ныне в постановке Йонаса Вайткуса на сцене Национального театра литовской драмы - Т.Б.) и, кажется, первый на русской сцене персонаж, открыто декларирующий экологические постулаты, во весь голос призывающий спасать, хранить, беречь природу. Скольких экологических катастроф удалось бы избежать, прислушайся люди вовремя к словам учёных - собратьев по идее и доктора Штокмана, и доктора Астрова.
Т.Б.: Да, Астрова не понимают даже близкие его друзья - интеллигентные, имеющие, как и он, университетское образование, окружающие люди. Например, тот же дядя Ваня парирует: "Всё это мило, но не убедительно, так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева" (на что Астров говорит: "Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня". И каждый, увы, остаётся при своём мнении.).
К.С.: От этого тотального непонимания, от окружающей его косности, от сознания личностной бесперспективности Астров пребывает в угнетённом, подавленном душевном состоянии: он осознаёт, что пропадает, что выхода для него нет никакого, что его "положение... безнадёжно" (как оно и сказано в тексте).
Т.Б.: Тем не менее он способен на сильное искреннее чувство к прекрасной Елене Андреевне, что было убедительно запечатлено в вашем с Далей Сторик страстном, романсной природы актёрском коллизийном дуэте, ставшем подлинным украшением и в немалой мере - эмоциональной кульминацией всего спектакля Некрошюса "Дядя Ваня". Что было для Вас главным в этой дуэтной партии Астрова?
К.С.: Астров не только и не просто врач - он ещё и психолог. Когда в дом его друга Войницкого приезжает молодая красивая женщина, он, заинтересовавшись ею, понимает, что она уже не любит мужа (если даже когда-то любила, как уверяет Соню). Астрову обидно и страшно за судьбу этой незаурядной женщины, возможно, он искренне увлечён Еленой Андреевной, но... что он может ей предложить? Всё ту же безысходность? Какую программу общего с нею будущего он мог бы начертать? Никакой, ровным счётом, ни-ка-кой! Где и чему учились бы их дети? Он не мог её погубить, как погубил Паратов Ларису в "Бесприданнице", как Тригорин - Нину в "Чайке". Именно в силу уважения к этой женщине Астров, как реалист и человек здравомыслящий, глубоко порядочный и честный по отношению и к себе самому, и к другим, должен отказаться от Елены Андреевны. Это мучительно и больно, но он по благородству души решительно "снимает свою кандидатуру", будучи уже не в силах "составить счастье" героини этой чеховской романной коллизии. К тому же Астров ведь далеко не идеальный герой: он пьющий человек, как всем известно, он может быть и жестоким, и чересчур прямолинейным... Прав был Антон Павлович Чехов, решительно протестовавший против какой бы то ни было бравурной тональности в сцене прощания Елены Андреевны и Астрова. Эта сцена насквозь проникнута глубоко минорными настроениями, главное из которых именно безнадёжность. Отсутствие всякой надежды, в том числе, и на встречу героев в будущем. Так утверждал Чехов, так думал Некрошюс, так играл и я.
Ничего, думается, я от чеховского образа не убавил и ничего к нему не прибавил, кроме сцены мнимого самоубийства Астрова в финале, после его прощания с Еленой Андреевной.
Т.Б.: Зачем же Вами сыгранный Астров имитировал это самоубийство? (Оно, это самоубийство, так жестоко, внезапно и правдоподобно разыгранное Вашим героем в "Дяде Ване" Некрошюса, живо напоминало о том, как Сергей Юрский в финале комедии Грибоедова "Горе от ума", поставленной в БДТ Георгием Товстоноговым, вот так же, играя Чацкого, вместо того, чтоб произнести каноническое и протестное восклицание "Карету мне, карету!", падал навзничь без признаков жизни.) Не хотел ли Астров таким способом как-то удержать Елену Андреевну?
К.С.: Напротив, Астров инсценирует собственное самоубийство, чтобы с отъездом Елены Андреевны уж все мосты между ними были бы сожжены, а ещё, быть может, потому, что предстоит ему унылое возвращение в свой одинокий дом, где его никто не ждёт, и старой няни у него нет - такой, как беззаветно любившая и воспитавшая Пушкина Арина Родионовна, или такой, которая живёт в доме Войницких и относится к Астрову добросердечно, но её он нескоро увидит, ибо уезжает "к себе" надолго, поскольку доктору теперь и самому стыдно за учинённый им "самоубийственный розыгрыш".
Т.Б.: В "Дяде Ване " Вы играли не одну, а три биномные коллизии: философскую - с Видасом Пяткявичюсом, игравшим Войницкого (Вам с Видасом Пяткявичюсом довелось славно партнёрствовать и на экране в "Вечном сиянии" А.Пуйпы и его же ленте "Там песчаные берега", и на сцене - в траги-абсурдистской пьесе Э.Олби "Коза, или Кто эта Сильвия", последнем спектакле, поставленном Далей Тамулявичюте (1940 - 2006), трагилирическую - с Далей Оверайте (игравшей Соню и бывшей Вашей неповторимой партнёршей в "Квадрате") и центральную любовную - с Далей Сторик, создавшей прелестный драматический образ Елены Андреевны. Что было исполнительски главным для Вас в этом актёрском дуэте с Далей Сторик?
К.С.: Дуэты с Далей Сторик для меня памятны и интересны. Мы ведь с ней век знакомы, вместе учились, вместе играли много раз, в том числе - в "Макбете" у Некрошюса, в пьесе Олби "Коза, или Кто эта Сильвия?"... Даля - сильная актриса, склонная к более устойчивой классической интерпретации своих, тщательно продуманных ролей. Как партнёр она, по-моему, очень восприимчива, хоть и чуточку консервативна, по сравнению со мной, и может - по-гамлетовски - оказать "сопротивление". Даля слышит и видит мои импровизационные новшества - и реагирует умно, в результате чего по ходу нашего с нею актёрского дуэта обозначаются (иль задаются) своеобразные полюса импровизации, определяющие внутренний ход и локальные эмоциональные оттенки того или иного сценического диалога.
Т.Б.: Вам довелось играть дуэтом с неповторимой и незабвенной актрисой Эугенией Плешките (1937 - 2013), звездой литовской сцены и экрана: в театре то были ибсеновские "Привидения" , поставленные Йонасом Пакулисом в конце 70-х годов XX века, а в кино - фильм Альгимантаса Пуйпы" "Чёртово семя". Что вспоминается?
К.С.: Играть с Эугенией Плешките - вечная ей память! - было нелегко. У неё жемайтийский нрав (то есть сильный и настойчивый характер), и мы, играя с нею дуэтами, боролись каждый за своё артистическое право. Я был молод, у меня была интуиция, а у неё - опыт и желание настоять на своём. Из этой внутренней противоположности наших личностей и возникали творческие решения, обуславливавшие художественный склад дуэта.
Т.Б.: В телевизионном варианте драмы Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" Вы создали тщательно психологически разработанный трагический образ эмигранта Стенли, а роль Бланш в этой, датируемой 1987 годом, постановке режиссёра Юозаса Саболюса исполнила звезда литовского театра и кино Юрате Онайтите (главная героиня прославленного фильма Альгимантаса Пуйпы "Женщина и четверо её мужчин"). Ваш Стенли исполнительски был братом по крови иль назвáным братом и Йониса из "Чёртова семени", и Заключённого в "Квадрате", по-ибсеновски мятежного обездоленного рыбака в фильме Пуйпы "Эльза из Гилии", отчасти - и Астрова, ибо всех их Вы наделили мужественным обаянием, силой духа, благородством и гордостью, свойственной тем, о ком сказано: "не склонившие головы".
К.С.: Именно эти черты характера я полагал основными в образе тяжким трудом живущего в Новом Орлеане польского эмигранта Стенли, который ежедневно, поминутно подвергается оскорблениям и, как умеет, оказывает сопротивление тем, кто считает его человеком второго сорта. Я мысленно называю Стенли борцом без боксёрских перчаток - он отчаянно и непрерывно борется за себя, за своё достоинство, словом, в одиночку борется за всё - против всех. Важен и возраст исполнителя роли Стенли Ковальски: знаменитый Марлон Брандо триумфально сыграл эту роль в театре на Бродвее, будучи двадцатитрёхлетним. (Спустя четыре года, Брандо в дуэте с великой английской актрисой Вивьен Ли - исполнительницей роли Бланш Дюбуа - сыграл Стенли в кинокартине режиссёра Элиа Казана "Трамвай "Желание" (1951 г.) - Т.Б.) Довелось видеть в роли Стенли Армена Джигарханяна, и он был единственный, кто не играл американца в театральной интерпретации "Трамвая "Желание" режиссёром А.Гончаровым.
Т.Б.: Из числа Ваших сценических и экранных героев наберётся, пожалуй, коллегия персонажей-врачей: Йонас в ленте "Извините, пожалуйста" чеховские Чебутыкин в "Трёх сёстрах" и Астров в "Дяде Ване", наконец, очень колоритно сыгранный, щедро наделённый трагическим гедонизмом доктор Ранк в замечательно поставленной выдающимся литовским режиссёром Йонасом Вайткусом драме Генрика Ибсена "Кукольный дом" (где Нору восхитительно играла Даля Оверайте, много лет бывшая Вашей партнёршей в "Квадрате" Некрошюса). Существовал ли для упомянутых героев - а все они давали клятву Гиппократа - какой-нибудь Ваш личностный, актёрский "врачебный кодекс"?
К.С.: Конечно, каждый из моих героев-врачей был верен в своё время им данной клятве Гиппократа. Этим героям в бóльшей мере присуще страдание внутреннее, затаённое. Так, доктор Ранк из "Кукольного дома" на людях стоически играет роль жизнелюбивого импозантного господина, чья тайна известна ему одному. Неважно, каков именно смертельный диагноз: Ранк неизлечимо болен, и этим всё сказано.
Т.Б.: В Вашей артистической жизни было немало испытаний: головоломные сцены в "Квадрате", камнепад, под которым ведёт монолог Ваш Макбет, отважные трюки гоголевского Носа и, наконец, роль в пьесе Олби "Коза, или Кто эта Сильвия", в ходе которой Вам приходилось вслух произносить со сцены всё, что там "написано пером и не вырубишь топором". Вы проявляли во всех этих случаях прямо-таки артистический героизм!
К.С.: Спасибо на добром слове. Если говорить конкретно о тексте пьесы Олби, то есть о декларируемой там любви пресыщенного всеми благами жизни архитектора к козе, которую зовут Сильвия, то ведь вся эта история имеет равные шансы быть действительной и быть мнимой. Она вполне может составлять (несуществующее) содержание отчаянного, пронизанного постмодернистской иронией розыгрыша.
Т.Б.: Расскажите, пожалуйста, о своей новой роли.
К.С.: В бинарной пьесе "Академия смеха", написанной современным японским драматургом Коки Митани и поставленной на сцене Молодёжного театра режиссёром Вячеславом Гвоздковым, я играю Цензора - примерно такого, какие в советские времена сидели в Главлите и правили бал. "Академия смеха" - трагикомедия, в ходе которой мой Цензор постепенно постигает образ мыслей Художника, роль которого исполняет актёр Сергей Иванов.
Т.Б.: Для кого, в конечном счёте, играет артист: для себя, для партнёров, коллег? для публики?
К.С.: Средний актёр играет более всего для себя, артист высокого класса - для партнёров (ибо коллеги умеют ценить мастерство друг друга, какими бы ни были их личные внесценические взаимоотношения), а настоящий артист играет и для публики, и для партнёра, и для себя.
Т.Б.: Не пора ли хоть отчасти оспорить широко расхожий постулат о том, что артист чуть ли не обязан быть одиноким, непонятым страдальцем?
К.С.: Артист чаще всего и есть одинокий, страдающий человек, и ему свойственно чувство солидарности со всеми, кому плохо, со всеми униженными и оскорблёнными. Да, я могу быть счастлив в семье, в финансовых делах (иногда), но в душе я должен оставаться несчастным - иначе никак не сумеешь страдать ежевечерне всем напоказ.
Т.Б.: Благодарствуйте за беседу.
2013.03.20
P.S. В беседе использованы фрагменты интервью, данных мне Костасом Сморигинасом в 1996 и 2005 годах. - Т.Б.
[1]
[1] Гёте "Фауст". Перевод Бориса Пастернака.
[2]
[2] Очерки истории русской театральной критики "Искусство". Ленинградское отделение. 1975. Т.1, стр. 349-350.
[3]
[3] Здесь и далее цитаты из текстов Д.И.Фонвизина по изданию Д.И.Фонвизин. Бригадир. Недоросль. Сатирическая проза. Издательство "Советская Россия". Москва. 1987 г.
[4]
[4] Из стихотворения С.Я Надсона (1862 - 1887)
*
* А.П.Чехов. Полное собрание сочинений и писем. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1948. Том XI, стр. 581.
*
* Там же.
*
* Очерки русской театральной критики. "Искусство", Ленинградское отделение, 1976, т. 2, стр.247.
*
* К.Рудницкий. Театральные сюжеты. Москва, "Искусство", 1990, стр.126.
*
* Уильям Шекспир "Макбет". Акт 3, сцена 2 (перевод Бориса Пастернака)